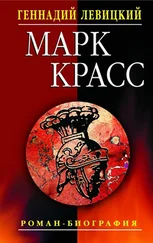Ты помнишь, конечно, этот момент, когда, показывая тебе квартиру, мы подошли, наконец, к дверям нашей спальни. Ты помнишь так же, как я противилась и ни за что не хотела открыть дверь, и как муж, рассерженный и непонимающий, все-таки открыл дверь, втолкнул меня и, пропуская тебя вперед, сказал: — входите, входите, это наша спальня; — вы видите, здесь все из красного дерева. Ты взглянул, ты посмотрел на неприбранную, на эту страшно разбросанную теперь в девять часов вечера постель, и ты понял. Я знаю: в эти минуты, стоя в нашей спальне, ты испытывал и ревность, и боль, и горечь оскорбленной, поруганной любви. Я и тогда уже знала, что ты испытываешь все эти чувства. И только потом я узнала, что это оскорбление твоей любви — было часом рождения твоей чувственности. Как жаль, что я поняла это слишком поздно.
Ты знаешь, что было дальше. Я продолжала встречаться с тобой тайком от мужа, но эти наши новые встречи были уже не те, что раньше. Каждый раз ты приводил меня в какую-то трущобу, срывал с меня и с себя платье и брал меня с каждым разом грубее, безжалостнее, циничней. Не упрекай меня за то, что я позволила это делать. Не говори, что это доставляло мне хоть минуту радости. Я переносила этот разврат, как больной переносит лекарство: он думает этим спасти свою жизнь, — я думала спасти свою любовь. В первые дни, хотя я и заметила, хотя и поняла, что твоя чувственность разогревается в соответствии с остыванием твоей любви, — я еще на что-то надеялась, я еще чего-то ждала. Но вчера, — вчера я почувствовала, я поняла, что даже и чувственности нет в тебе больше, что ты сыт, что я лишняя, что так продолжаться не должно. Ты помнишь, как ты даже не поцеловал меня, не обнял, не сказал даже слова привета, и молча, со спокойствием чиновника, пришедшего на службу, начал раздеваться. Я смотрела на тебя, на то, как ты, стоя передо мною в нижнем и, прости, не очень свежем белье, заботливо складывая брюки, как потом подошел к умывальнику, снял полотенце, предусмотрительно положил его под подушку, и как потом, — потом, после всего, ты не стесняясь, даже не отворачиваясь от меня, вытерся, и предложил мне сделать то же — повернулся спиной и закурил папиросу. — Что же, — спрашивала я себя, — это и есть та самая любовь, ради которой я готова бросить все, сломать и исковеркать жизнь. Нет, Вадим, нет милый, это не любовь, а это грязь, мутная, мерзкая. Такая грязь имеется в моем доме в таком достатке, что я не вижу нужды переносить ее из моей супружеской спальни, где «все из красного дерева», в затхлый номер притона. И пусть это тебе покажется жестоким, но я еще хочу сказать, что в выборе между тобой и мужем, — я теперь отдаю предпочтение не только обстановкам, но и лицам. Да, Вадим, в выборе между тобой и мужем, я, помимо всяких обстановок, предпочту моего мужа. Пойми. Эротика моего мужа — это результат его духовного нищенства: оно у него профессионально и потому не оскорбительно. Твое же отношение ко мне — это какое-то беспрерывное падение, какое-то стремительное обнищание чувств, которое, как всякое обнищание, унижает меня тем больнее, чем большему богатству в прошлом оно идет на смену.
Прощай, Вадим. Прощай, милый, дорогой мой мальчик. Прощай, моя мечта, моя сказка, мой сон. Верь мне: ты молод, вся жизнь твоя впереди, и ты-то еще будешь счастлив. Прощай же.
Соня.
Уже нельзя было лечь на подоконник, темносерый и каменный, с фальшивыми нитями мраморных жил, и с обструганным, обнажавшим белый камень краем, о который точились перочинные ножи. Уже нельзя было, легши на этот подоконник и вытянув голову, увидеть длинный и узкий, с асфальтированной дорожкой, двор, — с деревянными, всегда запертыми воротами, с боку которых, точно утомленно отяжелев, отвисала на ржавой петле калитка, где об нижнюю перекладину всегда спотыкались жильцы, а споткнувшись, непременно на нее ругающими глазами оглядывались. Была зима, окна были законопачены вкусно-сливочного цвета замазкой, меж рамами стекла округло лежала вата, в вате были вставлены два узких и высоких стаканчика с желтой жидкостью, — и подходя еще по летней привычке к окну, где из-под подоконника дышало сухим жаром, по-особенному чувствовалась та отрезанность улицы, которая (в зависимости от настроения) возбуждала чувство уюта или тоски. Теперь из окна моей комнатенки видна была только соседняя стена с застывшими на кирпичах серыми потоками известки, — да еще внизу, то самое отгороженное частокольчиком место, которое швейцар наш Матвей внушительно называл садом для господ, причем достаточно было взглянуть на этот сад или на этих господ, чтобы понять, что та особенная почтительность Матвея, с которой он отзывался о своих господах, была не более, как расчетливое взвинчивание своего собственного достоинства, за счет возвеличения людей, которым он был подчинен.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
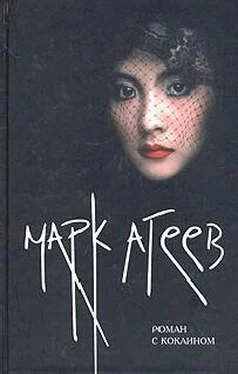




![Давид Маркиш - Пёс [Роман]](/books/406444/david-markish-pes-roman-thumb.webp)