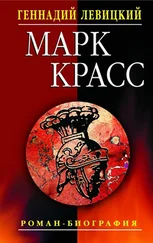Меня крепко тянуло взглянуть на него, и эта тяга к Буркевицу тонко сплеталась из трех чувств: первое чувство было жестокое любопытство взглянуть на человека, с которым произошло большое несчастье; второе — было чувство молодечества по причине единичности моего поступка, ибо никто в классе даже не помышлял идти к тому, кто уже почитался зачумленным; третье — было чувство, сообщавшее мускулатуру первому и второму: уверенность в том, что мое приближение или даже беседа с Буркевицем никакими неприятностями со стороны начальства не грозит. На часах оставалось две минуты до окончания перемены. Выйдя из класса, протолкавшись вдоль по коридору, полному нестройного стука ног, звона голосов и вскриков, — я вышел на площадку лестницы. Притворив за собой дверь, отчего крики и топот ног, обманув ухо, затихли, и только через мгновение пришли заглушенным густым гулом, — я оглянулся.
Лестницей ниже, около двери карцера, который последние десять лет не был в употреблении, и на котором висел рыжий ржавый замок, — сидел Буркевиц. Он сидел на ступеньках, спиной ко мне. Он сидел раскорякой, с локтями на коленях, — с упавшей в ладони головой. Тихонько на носках и очень медленно по ступеням, я начал спускаться к нему, при этом все глядя на его спину. Его спина была выгнута горбом, — словно два острых предмета подоткнутых под шибко натянутое сукно — проступали лопатки, и в этой скрюченной спине и в этих вылезающих лопатках были и бессилие, и покорность, и отчаяние. Тихонько подойдя к нему сзади, все так, чтобы он меня не видел, я положил руку на его плечо. Он не вздрогнул и не открыл лица. Только спина его еще больше сгорбатилась. Все глядя на его спину, я осторожно перенес руку с его плеча на его волосы. Но только я прикоснулся к его тепловатым волосам, как почувствовал, что во мне тронулось что-то такое, от чего, если бы кто увидел, мне стало бы совестно. Оглянувшись так, чтобы это даже не было похоже на оглядывание, убедившись, что на лестнице пусто, я ласково провел рукой по жестким шоколадным вихрам. Это было приятно. Мне стало сразу так легко и так нежно, что я еще и еще раз провел по его волосам. Не отнимая рук от уткнутого в них лица, и потому не видя того, кто к нему подошел и кто гладит его волосы. — Буркевиц вдруг глухим сквозь ладони звуком произнес: — Вадим? С хрустальной грудью я сразу опустился и сел рядом с ним. Буркевиц сказал Вадим, он назвал меня по имени, и то, что он сделал это, не видя того, кто пришел к нему, означало для меня впервые быть отмеченным не за бессердечие молодечества, а за отзывчивость и нежность моего сердца. Мои пальцы сжались, захватили горячие у корней жесткие вихры волос, — и шибко дернув и вырвав лицо Буркевица из скорлупы закрывавших его ладоней, я повернул это лицо к себе, глаза в глаза. Близко-близко я видел теперь перед собой эти маленькие серые глаза, странно измененные от оттянутой к затылку кожи, где моя рука держала его за волосы. С секунду эти глаза в хмуром своем страдании смотрели на меня, но наконец, не смогши видно одолеть тугие мужские слезы, они, заложив свирепую складку промеж бровей, скрылись под веками. И тотчас, лишь только закрылись глаза, раздался незнакомый мне лающий голос. — Вадим. — Ты. — Милый. — Един. — Ственный. Веришь — Так тяжело. — Я. — От всей. — От души. — Веришь. — И впервые чувствуя как сильные мужские руки обнимают и тискают мою спину, впервые прижимаясь щекой к мужской щеке, — я грубым, ругающимся голосом говорил. — Вася… я… твой… твой… «Друг» я все хотел добавить, но «др» может еще сказал бы, а вот на «у» боялся расплакаться. И жестоко оттолкнув Буркевица, качнув его лицо, которое и закрытыми глазами и бледностью своею, и коротким носом, походило на гипсовую бетховенскую маску, — я, с равнодушным ужасом сознавая то страшное, что собираюсь сейчас сделать, бросился вниз по лестницам. Я мчался по лестнице так, как мчатся за врачом для умирающего друга, мчался не потому, что врач может спасти, а потому, что в этом движении, в этой погоне должна ослабнуть та тяга на себе самом испытывать те страдания, вид которых возбудил это совершенно непереносимое чувство жалости.
Лестница прошла. В подвально обеденной зале ноги приспосабливаются к скольжению по сине-белой кафели. Последнее окно куском солнца задевает глаза, и сразу темная сырость раздевальной, — по ее асфальтовому полу подошвы влипают ввинченной уверенностью. И опять лестница наверх. Я уже знаю начало, — «как истинный христианин довожу до вашего сведения», — а дальше не важно, дальше пойдет как по маслу, по маслу, по маслу, — при этом я заносил ногу через три ступени и при нажиме крякал — на масле.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
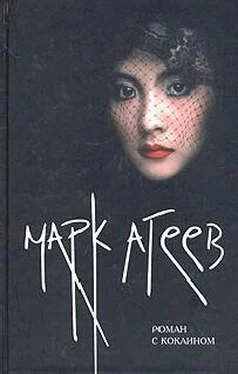




![Давид Маркиш - Пёс [Роман]](/books/406444/david-markish-pes-roman-thumb.webp)