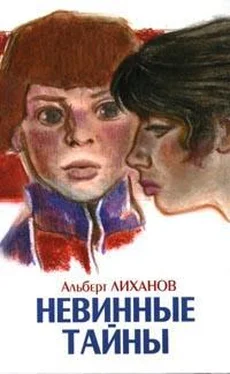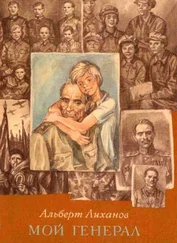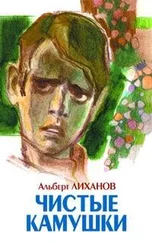На этом все оборвалось для Павла. Включилась тишина.
Он пришел в себя после операции, увидев белые госпитальные потолки, возвратился к жизни, но так ни от кого ничего не смог узнать больше. Те, кто бежал ему на подмогу, были из других частей, чистые автомобилисты, другие машины их отделения шли в голове и в середине колонны, а из их экипажа уцелели Ашотик да он, так уж ему повезло.
Про мальчишку с автоматом, как это ни удивительно, он думал больше всего. Про убитых товарищей говорил с другими друзьями, с Ашотиком, а про мальчишку говорить было не с кем, этого пацана он видел один.
Один.
Его убийца. Только неопытность мальчишки да еще, пожалуй, его страх подарили Павлу жизнь, оставив под ключицей и под лопаткой две глубокие впадины от пули, прошедшей навылет.
Да, он думал о нем.
И чем дальше увозили его от этих проклятых гор транспортные самолеты, тем как будто ближе подступал испуганный мальчишка. Павлу казалось даже, что с течением времени он все явственнее видел его лицо, как будто тот приближался к нему.
На лбу у пацана блестели капельки пота, вспомнил он. И очень черные, густые, будто насурьмленные брови. Глаза — не карие, именно черные. Наверное, просто до предела расширены зрачки.
Откуда он, кто? Из засады, из банды? Верней всего. Значит, он знал, что хочет убить, думал о смерти другого человека, других людей… Но ведь он мальчишка, неужели не страшно? Нет, было страшно. Это Павел видел своими глазами. Может быть, останься он в живых после этой засады, страх выучил бы его, заставил бы бросить автомат и никогда больше, никогда не стрелять в другого человека… Впрочем, выбравшись из страха, люди быстро забывают о нем, особенно если они темны или неразумны.
Да, этот мальчишка, его несостоявшийся убийца, неотступно преследовал Павла, и он никак не мог отвязаться от этик вытаращенных черных, как два ствола, глаз, никак. Павел догадывался, может быть, даже точно знал, чем объясняется эта неотступность. Он не сумел выполнить свои обязанности, и он поплатился за это. Но мальчишка вряд ли жив. Смертью не играют — своей ли, чужой. Стрелять в людей, да еще в солдат — опасная забава. Но он, Павел, не виноват перед ним. Так что напрасно эти глаза преследуют его.
Но что ни говори сам себе, как ни внушай, какие только истины ни вдалбливай в собственные же мозги, это мало что дает.
Глаза пацана, два этих ствола вместе с третьим — с черным зрачком автомата, преследовали Павла во сне и наяву.
Он не был виноват перед ним, это так, но чувство вины перед мальчишкой ни на час не оставляло его, и чем дальше отплывала его жизнь от боя, тем горше и безысходнее давила необъяснимая вина.
Павел не знал, как избавиться от того, что не отступает, но облегченно, необъяснимо для себя обрадовался, когда ему, вернувшемуся в родной городок, товарищ по школе, секретарь гор кома комсомола, сделал неожиданное предложение поехать на два года вожатым в лагерь на берегу моря.
Он согласился сразу, без колебаний.
* * *
Между ужином и отбоем был назначен «Вечер знакомств». Хоть от приезда до этого вечера истекали сутки, а то и вторые, хоть ребята уже и так присмотрелись друг к другу и многие перезнакомились, вечера эти всякий раз становились как бы стартом смены. Перед тем — всякая организационная суета, многочисленные объяснения и наставления, а настоящая дружеская жизнь начиналась с официального знакомства, уж так получалось.
Зеленые лавки под кипарисами соединяли в круг заранее, днем.
В час, когда сумерки еще только подступали к лагерю, когда было вполне светло, но горы уже набрасывали на побережье свои прохладные тени и пространство от земли до небесных глубин застывало на несколько недолгих минут, благостных, умиротворенных, разделяющих собой морской отлив от начала ночного прилива и легкие дневные бризы, дующие с прогретого моря в сторону берега, на бризы ночные, идущие в обратном направлении — в этот час покоя, призывающий к откровению и любви, усаживались кружком ребята в голубых пилотках, с красными пионерскими галстуками.
Каждый должен был встать и назваться, сказать, откуда он, как учится, чем увлечен и еще что-нибудь сказать, по усмотрению, нужное и важное для такого представления. Павел нарочно выбирал этот самый час, потому что незаметно он превращался в сумерки, а в сумерках, как известно, легче откровенничать, легче обсуждать сложные вопросы или читать стихи — в обычных сменах именно так и случалось; день шел к концу, а откровенность разгоралась, точно заря, и ребята долго не хотели расходиться, а потом, после отбоя, долго говорили в своих спальнях, не могли уснуть, и Павел Ильич Метелин в своем вожатском деле больше всего любил вот именно эти ночи, когда по десять раз требовалось зайти и сказать строгим голосом:
Читать дальше