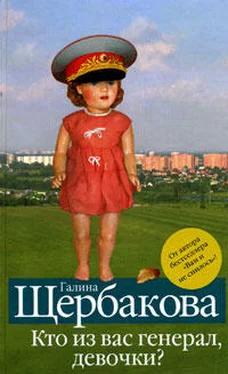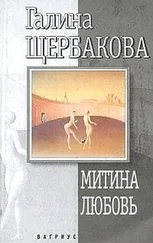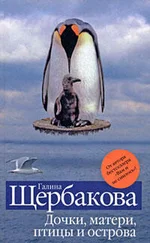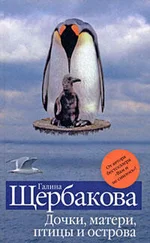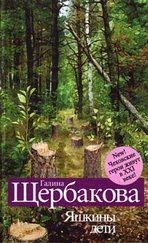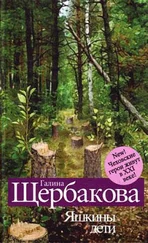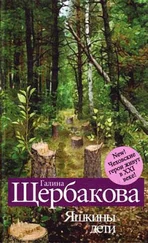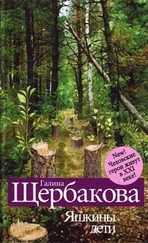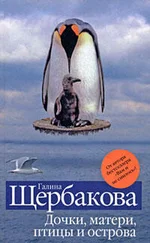– Ниче, сына, ниче… Это не самое страшное. Есть работы пострашнее. На бойне, например… Или в шахте… Не жмакай материю, не жмакай. Волокно надо как раз распрямить и по самой прямоте пройтись мылом… Оно и подчинится… А еще есть профессия, что людей стреляют. Мне бы тыщу дали – не пошла бы. И ты, смотри, не ходи. Мало ли что… Сговаривать начнут как комсомольца.
Я знала, что она говорит сыну, потому что, когда она мне стирала байковое одеяло, она поинтересовалась: правильно ли она его направляет мимо бойни, мимо шахты и мимо стреляющих в людей, откуда, мол, ей знать, безграмотной, может, теперь другие понятия? Конечно, главное – институт, и она, конечно, для такого дела расшибется, но ведь всяко может быть? Всяко. Тогда как? Взять ту же бойню…
Нашла у кого спросить! Я тогда ручонками на нее замахала, затарахтела что-то о безграничности открывающихся высот, широт, а также и глубин. Я сулила ее сыну какое-то необыкновенное будущее – главного начальника всех шоссейных дорог, например, или директора металлургического комбината. Прачке нравились мои фантазии – еще бы! Она только беспокоилась, хватит ли у него ума «с людями»? Да, говорила я, да, характер надо бы воспитывать, вот он чурается общественной работы, а это очень важно.
– Вы ему сами скажите, – говорила прачка. – Я этих ваших слов не знаю.
Так вот Людочка вдохнула запах стирки, попривыкла к темноте и стала разглядывать на дверях нарисованные краской номера. И вот пока она соображала, слева или справа от шестого номера искать седьмой, она услышала смех. За одной из дверей было весело и шла интересная жизнь.
– Не распускай лапы, – счастливо кричала женщина. – Дай человеку закусить. Я не поем – буйная стану… А ты силу копи, копи… Напрягайся! В школу не ходить, а баб лапать – это и без ума можно. А я, Володя, ум уважаю. Я его раньше красоты и силы ставлю. Очень жалею, что сама его не имею… Одна красота! – Вместе с хохотом что-то завалилось и брякнуло, шум пошел совершенно специфический, как будто кто-то тащил живое и тяжелое, и живое выскальзывало, и тогда тот, кто тащил, повторял: «Ну я тебя… Ну я тебя…»
Представим себе ситуацию: ты полный идиот. Как говорил один мой знакомый, ж…у от пальца тебе не отличить. От природы. В этом случае вполне можно войти в этот момент в комнату и задать вопрос: «Скажите, я правильно иду в Новосибирск?» или «Я так прямиком попаду в Клайпеду?»
Людочка открыла дверь и спросила:
– Невзоров, чем вы здесь занимаетесь?
Живое и тяжелое, то, что было Раей Колесниковой, имело быстрые реакции. Живое заслонило потерявшего соображение (по совокупности причин) Володю Невзорова и спросило хорошим магазинным голосом:
– Ой! Ой! Кто к нам пришел! Такие гости! Не выпьете ли с нами портвейну, у нас не допито…
Опять же! Представим, что ты идиот и не можешь отличить одно от другого. Божий дар и яичницу.
– Вы ответите за свое поведение, – сказала им Людочка.
Когда я говорю об идиотах, я не только ее имею в виду. Я имею в виду всех нас, а Райку в первую очередь, потому что именно она словам Людочки значения не придала. Никакого!
Райка (где она, бедолага? Где? Раиса Колесникова! Откликнись! Вы сейчас уже старенькая, если живая, конечно. Смотрите, наверное, телевизор. Так что смогли увидеть ту, что я увидела. Или?), так вот Райка тогда захохотала нагло так в лицо Людочке и пошла на нее всем своим не до конца раздетым телом. Она ее выдавливала со своей территории и все норовила так идти, чтоб Людочке так и не увидеть пребывающего в прострации Володю, который полусидел на краешке пышной Райкиной кровати, как бы прощаясь сразу со всем. Это он мне потом сказал. «Я, говорит, понял, что тут моя жизнь закончилась. Надо рвать когти, и подальше».
А Людочка – причуда жизни – тянула к нему руки. Это, видимо, получилось у нее непроизвольно, потому что по протянутым рукам Райка и ударила ее своей крепенькой лапой, и не от боли, а от оскорбления Людочка наконец сообразила, что ей уйти было бы правильней, чем оставаться.
– Ну, знаешь, – сказала Райка, – нечего на молоденького пасть открывать. Не тому вас в институтах профессора учили, чтоб за учениками бегать… Придумала тоже репетиции, а сама все к телу жмешься… Все ж знают!
Вот тут эффект всеобщей идиотии кончился, Людочка, красная как рак, выскочила на улицу Красную. Удвоение цвета придало ей прыти, и эта самая прыть понесла ее не в девичью подушку, чтоб обрыдаться-обслезиться, не к нам, например, чтоб в гневе высказать все, что она думает, а по скверику в обком, где все всё поняли правильно, и наша школа после этого просуществовала ровно одиннадцать дней. И ни минуты больше. На нас подули – фу! – и нас не стало. Здание наше – оказывается! – понадобилось до зарезу партшколе. Уже на другой день сновали по коридорам какие-то люди с рулетками, ножичком поддевали классные вывески, и эти последние громко бряцали об пол. Мы в классах вздрагивали и замолкали, потому что все попали в полосу творимого руками, отвертками абсурда и у всех у нас, даже у самых умных, слова в горле застряли. А те, у кого они оказались, у Алевтины например, те говорили прямо, грубо и справедливо:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу