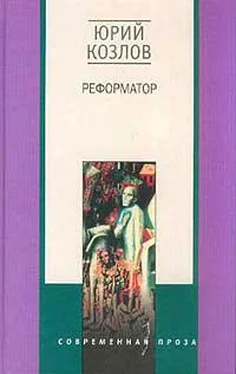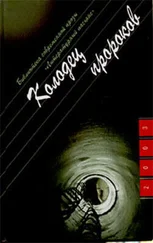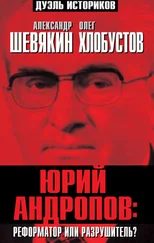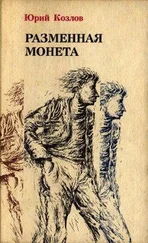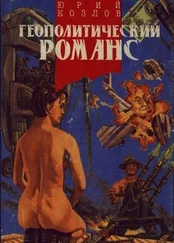Никита частенько ловил на себе и брате его тревожно перемещающийся (оценивающий) взгляд, как если бы отец хотел понять нечто важное, кого-то из них выбрать, то есть «определял» в каждом из сыновей «определяющее» и… тоже никак не мог выбрать, определить.
Хотя, казалось, чего выбирать между копейкой (Никитой) и рублем (Саввой)?
Никита в детстве был толст и удивительно неуклюж. Преодолел немоту лишь к четырем годам. В школе смотрел в книгу, а видел фигу, во дворе частенько бывал бит сверстниками, дома же занимался в основном бесполезными делами, такими как лепка пластилиновых уродцев и вырезание из бумаги (опять же уродцев) с последующим размещением их в самых неожиданных местах, допустим, в шкатулке, где мать хранила браслеты и серьги, в запирающемся на ключ баре, где отец держал престижную заграничную выпивку, в холодильнике и даже… внутри обуви. Пластилиновые уродцы карабкались по бутылкам, как африканцы по пальмам, бумажные уродцы слетали со шкафов и люстр, как парашютисты или дельтапланеристы.
«Зачем ты это делаешь?» — не уставали спрашивать мать, отец, брат.
Никита не удостаивал ответом, пока, наконец, Савва не сформулировал вопрос иначе.
«Кто эти люди, брат?» — на полном серьезе поинтересовался он, как будто размножавшимся в квартире подобно леммингам бумажным и пластилиновым уродцам можно было дать хоть сколько-нибудь разумное определение.
«Это… народ», — вдруг ответил Никита, отметив, как дернулись зрачки в синих глазах Саввы и (боковым, не иначе зрением) отметив, как дернулись зрачки у входящего в комнату (он всегда входил в самые неподходящие моменты) отца.
Больше они не беспокоили его вопросами насчет уродцев.
…Никита не поверил своему счастью, когда узнал, что старший брат берет его с собой в Крым.
Савва был высок, строен, светловолос, гибок, как молодая ольха или осина, в отличие от отца, не копил денег, был не эпизодически-истерически, а перманентно (как дышал) смел и уверен в себе. Идя со старшим братом по темному парку или по гадкому участку улицы, Никита ничего не боялся, потому что (по крайней мере, в его представлении) Савва был бесконечно выше тривиальных земных опасностей, как, допустим, орел выше тревог бегающих и ползающих по земле мышей и ужей. Хотя, конечно, это не означает, что презрительно (сыто?) посматривающего с высоты на ползающих по земле мышей и ужей орла вдруг не сразит пущенная с земли же пуля.
Девчонки сохли по Савве. Стиральная машина в ванной к концу недели была (как народно-песенная коробочка) полным-полна его испачканных помадой рубашек.
«Ты бы им намекнул, что ли, — просила мать, — чтобы они пользовались отстирывающейся помадой».
Особенно раздражала ее девушка, пользующаяся серебряной (практически не отстирывающейся) помадой, на свидания с которой Савва надевал самые красивые рубашки.
«Лучше бы ты надевал кольчугу, тогда пятна были бы не так заметны», — печалилась мать, посетившая не один хозяйственный магазин в поисках эффективного средства для борьбы с серебряной помадой.
В добавление к перечисленному, Савва трижды в неделю плавал в бассейне, занимался в секции восточных единоборств, читал в день (как Сталин) не менее пятисот страниц убористого текста.
Мать читала мало и крайне избирательно, наверстывая, впрочем, упущенное в неврологических санаториях.
Никита тогда не читал вообще.
Второе место (с огромным отставанием) по чтению в семье занимал отец, который называл Савву «машиной для чтения».
«Знаешь, в чем основная конструкторская недоработка этой машины?» — поинтересовался он однажды у Саввы. И не дожидаясь (он, впрочем, и не предполагался) ответа, сам ответил: «Она жрет дикое количество топлива, но стоит на месте».
«Потому что летит, — возразил Савва, — со скоростью мысли, которая выше скорости света. Но это мало кто видит, а потому всем кажется, что она стоит на месте».
«А ты, стало быть, за рулем? И, стало быть, знаешь куда летишь?» — как вбил гвоздь, уточнил отец.
«Иногда мне кажется, — задумчиво ответил Савва, — что я не водитель и не пассажир, а… — часть мотора. Мотор же, как известно, не может нести ответственности за скорость и направление движения».
Отец и Савва частенько вели странные беседы. До тринадцати лет Никита (за исключением печатной продукции эротического характера) не брал в руки книг (зато потом наверстал с лихвой), а потому хранил в незамусоренном, просторном, как храм, точнее склад нижнем (детском) этаже памяти все, что в те годы видел и слышал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу