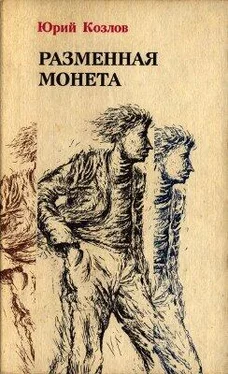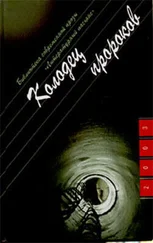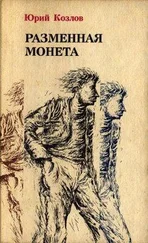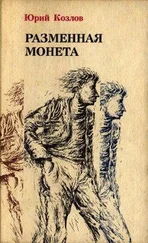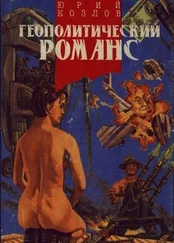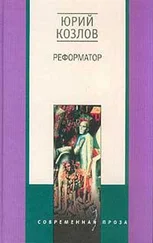На пороге кабинета стояла Надя Смольникова: в белом платье, с ополовиненной бутылкой шампанского в одной руке, с незажжённой сигаретой в другой.
— Приветик! Внизу ни у кого нет спичек. Идиоты утверждают, что директор всех обыскивал на входе. Я и подумала, где добыть огня, как не в кабинете химии? И посуды тут полно. Я же не сдавала деньги на этот дурацкий вечер, мне за столами сидеть не положено. А ты тут… тренируешься, что ли? Смотри, свалишься! — Надя открыла шкаф, где хранились колбы и мензурки, закопчённые спиртовки, реактивы в толстых стеклянных флаконах. — Вот эти пузатенькие подходят…
Костя не спрыгнул, как мешок, рухнул с подоконника на пол. Ноги не держали. Единственное, успел отвернуться, вытереть рукавом слёзы.
— Ого, я смотрю, ты уже, — покосилась на него Надя.
— Нет-нет, — голос не слушался Костю, — я трезв, совершенно трезв, просто…
Надя вымыла две огнеупорные колбы. Они сверкали на столе, как ёлочные игрушки. «Смола» — было вырезано в углу стола. «Это она, Смола, — подумал Костя, — это будет память о ней».
В колбах пузырилось, светилось шампанское.
Костя ничего не понимал в химии. Когда на уроках приходилось ставить опыты, обязательно добавлял в реактивы каплю чернил из ручки. Жидкость становилась перламутрово-синей, как море в тоскливых осенних мечтах. «Сколько таких, как мы, просквозило через этот кабинет?» — подумал Костя. Ещё он подумал, что, если Надя подстрижёт свои гладкие чёрные волосы, как грозилась, она больше не будет Смолой, превратится в иную, незнакомую девушку. И вообще новая жизнь быстро отдалит их друг от друга. «Время — сволочь! — решил Костя. — Оно обманывает человека, пока он ве рит, но в итоге не оставляет ему ничего! Что с того, что год назад я слушал Высоцкого сутками, знал наизусть все песни? Сейчас меня тошнит от его хриплого голоса! Хотя он не стал хуже или лучше. И так со всем!» Он уже пришёл в себя, только лоб оставался в испарине. Костя вытирал его платком, испарина выступала снова.
— Так, — сказала Надя, — теперь займёмся добыванием огня. Не помнишь, что надо смешать, чтобы получилась самовозгорающаяся смесь? Кислоту с фенолфталеином? Или с этим… как его, лакмусом?
— Не надо. Мы взорвём школу. У меня есть спички. Надя прикурила, протянула Косте колбу с шампанским.
— Вообще-то я не очень люблю шампанское, — сказала, — но, чёрт возьми, так приятно пить краденое! Ты меня, конечно, осуждаешь?
— Наоборот, восхищаюсь!
Воистину, пить краденое шампанское было неизъяснимо приятнее, нежели лежать на асфальте с раскроенным черепом. Костя подумал, блестящие, как смола, волосы, резкость, решительность, вольное отношение к так называемым правилам поведения роднит Надю с семейством врановых птиц. Разве можно так искренне радоваться, что стащила шампанское? Смотреть неотрывно на блестящее, словно в серебристый шарф, укутанное в фольгу бутылочное горло? «А, собственно, знает ли… догадывается ли она, что я чуть не…» Он жалко улыбнулся, впервые взглянул Наде в глаза.
Её глаза были мертвы от ужаса.
— Зачем… идиот? Что ты хотел? — шёпотом спросила она. — Ты хоть что-нибудь соображаешь?
Костя подумал: жизнь, спасение явились к нему в образе девушки в белом платье с украденной бутылкой вина в одной руке, с сигаретой в другой. Он восстал от смерти к пороку.
В глазах Нади более не было мёртвого ужаса. Надины глаза блестели сквозь ресницы. Закатное солнце превратило кабинет химии в факел. Белое Надино платье казалось красным. «Дверь, — прошептала Надя, — надо закрыть дверь на швабру…»
…Саша Тимофеев чувствовал себя неловко в белой рубашке, в пиджаке, хоть и снял ненавистный галстук, спрятал в карман. Галстук казался ему символом тупой покорности, воплощением всего, чего он надеялся в жизни избежать. Пиджак сдавливал плечи, рубашка раздражала тесным, беспокоящим шею воротничком. Белая рубашка была символом безликости, множественности. Саша давно привык одеваться, как ему казалось удобным, в одежду из мягких тканей, чтобы ничто не стесняло движений, чтобы в любой момент можно было заняться гимнастикой, побежать, без опасения, что затрещат штаны. Он мечтал о времени, когда в моду войдут просторные тряпичные рубашки. Он бы шил сам. Пока же, к сожалению, от шитья рубашек приходилось воздерживаться. В продаже отсутствовал материал, придающий воротничкам жёсткость и форму.
В разгар выпускного вечера Саша оказался в странном одиночестве. В актовом зале гремела музыка. Все танцевали. А он смотрел из вестибюля на улицу, сердился на пиджак и белую рубашку. Это было странно. Саша подумал, он вполне может сейчас уйти домой, и на этом выпускной вечер для него закончится. И всё? А как же прощание со школой, светлая грусть? С самого раннего детства инстинктивно, генетически Саша не доверял массовости, коллективному действию. Идущие колоннами, бешено аплодирующие кому-либо люди не казались ему людьми в полном смысле слова. И вот, когда все веселились и, надо думать, переживали светлую, прощальную грусть, он в одиночестве стоял в вестибюле и не испытывал никаких чувств, кроме досады на пиджак и белую рубашку.
Читать дальше