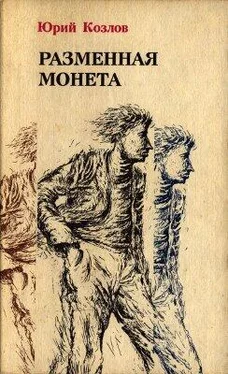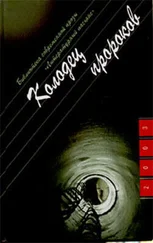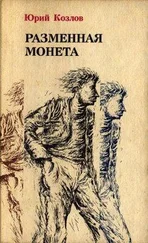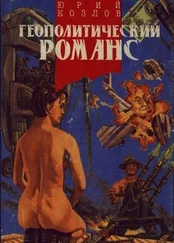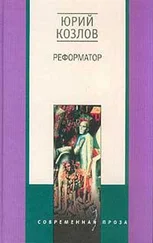Как-то родители ушли, Феликс остался дома один. Можно было пойти во двор, но лил дождь. Учить уроки не хотелось. «Может, в ванну?» — подумал он. Феликсу нравилось лежать в горячей воде, которая каждый раз была разная: то чуть зеленоватая, то жёлтая, то голубая, то мутная с песком. В такой совсем не нравилось. Видимо, цвет воды зависел от состояния очистных сооружений. Родители гнали его из ванной, почему-то их беспокоил сам факт его нахождения за закрытой дверью. Феликс этого не понимал. После ванны он наметил пить чай, наполнил чайник, поставил на огонь, чтобы потом лишь слегка его подогреть. Кухонный стол оказался в крошках. Он смахнул крошки в мусорное ведро, но оно оказалось безобразно переполненным. Феликс как был — в тапочках на босу ногу — зашлёпал по лестнице к мусоропроводу. «Только бы дверь не захлопнуть, — помнится, ещё подумал он, — чайник на огне, ванна наполняется. Вот смеху будет!» Но, оказавшись на площадке, вдруг… Некоторое время Феликс стоял перед дверью, ничего не соображая. Потом зачем-то приложил ухо к замку. В ванну весело била струя воды, — чтобы побыстрее наполнилась, Феликс отвернул на полную, — в кухне тоненько свистел чайник. Феликс царапнул ногтем замок, мол, давай, открывайся! — глупо и широко улыбнулся, будто это не он захлопнул дверь, не его квартира сейчас начнёт наполняться водой и газом, не ему отвечать. И тут его охватил ужас, опять-таки несоизмеримый с событием. Феликсу показалось, он совершил что-то страшное, чему не может быть прощения. Он завыл, зачем-то пнул мусорное ведро — оно с грохотом, расплёвывая огрызки, яичную скорлупу, покатилось по лестнице, — побежал сначала вниз, затем вверх — до самого последнего этажа. Во время бега к нему вернулась способность думать. Феликс вернулся на свой этаж, стал звонить во все двери. Старушек дома не было. Солидный товарищ отозвался на звонок, но дверь почему-то не открыл. Он нёс из-за двери такую галиматью, что Феликс понял: слухи о том, что он пьёт запоями и жена запирает его, не оставляя ключа, — святая правда. Феликс опять завыл, кинулся к обитой дерматином, украшенной профессорской табличкой двери Михал Иваныча. Тот, к счастью, оказался дома. «Кто это?» — насторожённо спросил он. Феликс только всхлипывал. Михал Иваныч открыл дверь. Феликс увидел на резиновом коврике в прихожей большую клеёнчатую сумку, из-под которой успела подтечь тёмная мясная лужица. «Что случилось, сынок?» Феликс показал на дверь. «Забрался кто?» — лицо у соседа сделалось встревоженным и свирепым. «Нет, за… за…» — «Захлопнул? — облегчённо вздохнул Михал Иваныч. — Ну, это беда небольшая…» Михал Иваныч внимательно осмотрел замок, неодобрительно покачал головой. Вернулся с топором. Просунув его между дверью и косяком, принялся отжимать дверь. С третьей попытки железный язычок замка выскочил из косяка, дверь распахнулась. «Всё в порядке, больше так не делай», — потрепав Феликса по голове, Михал Иваныч ушёл. Феликс стоял перед дверью, по щекам катились слёзы. Он не верил. После этого случая Феликс изменил отношение к Михал Иванычу. Возможно, благодарное детское воображение было тому причиной, но сосед стал казаться ему чуть ли не былинным богатырём, самым добрым, справедливым человеком. Конечно же, это было не совсем так. Феликс взрослел, ему становились очевидными изъяны Михал Иваныча: тот приворовывал, угодничал перед начальством, с теми же, кто стоял ниже, держался грубо и презрительно. С необъяснимой враждебностью относился ко всему, чего не понимал, выпив в праздничек, похваливал Сталина, при нём, мол, был порядок. Но при этом Михал Иваныч почему-то не задумывался, что лично ему вряд ли удалось бы тогда безнаказанно таскать мясцо, строить под Ленинградом крепенькую, как орешек, дачку, да и вообще не сумел бы он в те времена вырваться из деревни.
Вскоре мать — в очередной раз повысившись по службе — получила квартиру в центре. Они уехали из нового района. Феликс забыл про соседа, но недавно, разговаривая с Клячко и Сурковой, вспомнил. «О чём мы? — подумал Феликс. — Откуда мне знать его благо? Плевать он на меня хотел! Только… ведь выручил, когда мог. И как плевать, если я — тоже он? Просто он мне — как я ему. Я ему — ничего, значит, и он — ничего мне! Как же это мы разминулись?» Так Феликс пришёл к простой и, как ему казалось, справедливой мысли, что все люди — народ. Следовательно, всё хорошее в человеке — от народа, равно как и всё плохое — от него же. Но хорошее — стержень, вокруг которого народ набирается ума и сил. Следовательно, жизнь должна быть устроена так, чтобы люди неустанно побуждались к добродетели. Беда, когда нет стержня. Все ходят, как в тумане — тупеют, дичают. «Господи, какая-то утопия! — схватился за голову Феликс. — Необязательная, умозрительная болтовня! Чего я хочу от всех, когда сам… Когда в самом столько… И нет сил начать с себя!»
Читать дальше