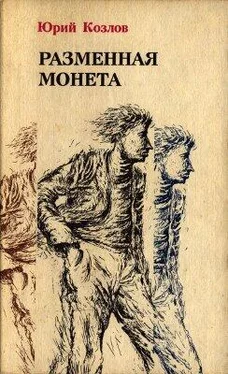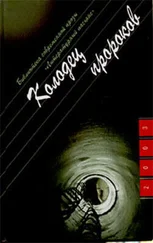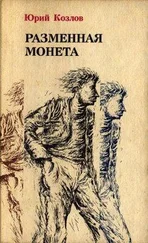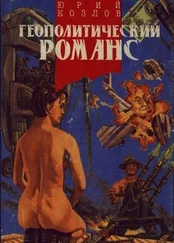Обидно было не столько за бессмысленно канувшие десять лет, сколько за то, что только сейчас Никифоров понял, как он отупел, опустился за эти годы. «Да брось ты, — помнится, утешил его Джига, — ум и глупость — категории, определяемые задним числом, главным образом для оправдания или осуждения того, что не нуждается ни в оправдании, ни в осуждении, поскольку это жизнь. Человек умён или глуп ровно настолько, насколько ему нравится жить так, как он живёт, а если не нравится, изменять собственную жизнь в сторону «нравится». Ум и глупость — категории чисто вспомогательные, абсолютно субъективные. Как стереооткрытка с двумя различными изображениями. Как посмотришь. Под одним углом — дурак дураком. Под другим — умный умнее некуда». — «Допустим, — согласился тогда Никифоров, — ум и глупость — категории вспомогательные, субъективные. Но как быть с цинизмом?» — «С цинизмом? — удивился Джига. — При чём здесь цинизм?» — «Как быть с душой?» — спросил Никифоров. «При чём здесь душа?» — вторично удивился Джига.
Говорить с Джигой о цинизме, о душе было так же бесполезно, как выяснять, кто он по национальности. У Джиги было острое узкое лицо, крепкий (не славянский) подбородок, светло-серые, ничего не выражающие глаза. Родом Джига был из-под Воронежа, что никоим образом вопрос о национальности не проясняло. Родителей его Никифоров не видел. Джига был до того равнодушен к этому вопросу, что ни разу толком на него не ответил. Хотя бы для того, чтобы Никифоров отвязался. «Да какое, собственно, это имеет значение?» — искренне удивился он пятнадцать лет назад, когда они учились на первом курсе и Никифоров впервые поинтересовался. Никифоров объяснил, что, собственно, значения никакого, просто фамилия необычная. «А я сам не знаю», — пожал плечами Джига. «Не знаешь, кто ты по национальности?» — зачем-то уточнил Никифоров. «Нет», — легко, как если бы у него спросили закурить, а он не курил, ответил Джига. «Ну а по паспорту?» — Никифоров сам не понимал, чего пристал к человеку. «По паспорту русский», — зевнул Джига.
Дело было осенью. Они шли из Исторической библиотеки переулками. В переулках было много церквей, в основном, конечно, недействующих. Каждый раз, когда Никифоров смотрел на церковь — на подновлённую действующую, или недействующую — кирпично-скелетную с проросшими сквозь стены и купола кустами, а то и деревьями, что-то тягостно сдвигалось у него в душе, какую-то ноющую тоску-вину ощущал Никифоров, что вот такими, как бы специально оставленными на поругание, стоят недействующие церкви, в действующие же ему, Никифорову, хода нет, так как, во-первых, не знает он, что делать, как стоять в храме, во-вторых, не умеет креститься, не говоря о том, чтобы молиться, в-третьих… не верует в Бога.
«Не жалко тебе?» — кивнул Никифоров на церковь. «Жалко? Чего? — с недоумением посмотрел по сторонам Джига, не сразу и приметив церковь. — А… — пожал плечами, — не знаю. Да ты не волнуйся, я не еврей». Но и не русский, подумал тогда Никифоров. И относился с тех пор к Джиге с некоторым превосходством, как имеющий полноценных родителей к сироте, пусть даже не сознающему своего сиротства.
А сейчас, спустя пятнадцать лет, вдруг подумал, что да, конечно, он, Никифоров — русский, Джига — неизвестно кто, только вот в чём превосходство Никифорова? Не верить в Бога и при этом тупо тосковать о порушенных храмах? Десять лет протирать штаны в бездарной конторе и — ни шагу за десять лет — ни чтобы поверить в Бога, ни чтобы защитить, помочь восстановить хоть какой-нибудь храм?
Никифоров вдруг мстительно признался себе в том, в чём боялся признаться больше смерти: не такое уж плохое было времечко! Не пугали сокращениями, расформированиями. Стабильно шли премии неизвестно за что. Зимы были морозней, лета суше. Полки в винных магазинах подсвечивались, бутылкам на них было тесно в разноцветном сиянии. Пей — не хочу! Никаких, за водкой по крайней мере, очередей. Некая умиротворяющая тишина была разлита в атмосфере и в газетах. Дни, месяцы, годы были абсолютно предсказуемы. Сладко, в общем-то, было жить без цели, расходовать жизнь на жизнь и ни на что более. Выпивать и испытывать при этом тоску по отнятой цели. И не делать ничего, чтобы появилась цель… И… продолжать жить, ненавидя и любя эту нелепую жизнь. «Боже, — схватился за голову Никифоров, — неужели это и есть русский путь?»
К чести Джиги, он много раз порывался уйти из «Регистрационной палаты». Однажды — в дальневосточную золотодобывающую артель. Но пока Джига вёл переговоры, руководство артели посадили, артель разогнали. Джига начал уговаривать Никифорова уйти вместе с ним в автосервисный кооператив. Никифорову не хотелось в кооператив. Но и продолжать получать в проклятой конторе сто восемьдесят было невыносимо. Они сходили с Джигой к этим ребятам, обосновавшимся в холодном дощатом сарае — бывшей голубятне — в путаных подозрительных дворах Кисловского переулка. Ребята определённо не понравились Никифорову. Слишком были молоды и глупы для любого дела, кроме честного физического труда или… бандитизма. При первом же взгляде на них было ясно, что они выбрали последнее. А именно: угонять машины, перекрашивать кузова, перебивать номера на моторах, и с богом — в Грузию, в Азербайджан. Ребята, видимо, только готовились заняться преступным промыслом, а потому нервничали. Без нужды уснащали речь блатными словечками, стали вдруг угрожать Джиге и Никифорову, мол, если те не согласятся работать, живыми из голубятни не выйдут. Один, самый нехороший, с заросшим неандертальским лбом начал не очень умело играть ножичком. Джига схватил канистру с бензином, плеснул на стоявшую в сарае единственную машину, под ноги ребятам. Щёлкнул зажигалкой: «Что, гниды, спалить вас, что ли, к ебени матери?» Те растерялись, не ожидали подобной прыти. Джига и Никифоров энергично покинули голубятню. «Где ты отыскал этот симпатичный кооператив?» — полюбопытствовал Никифоров. «А по справочнику, — ответил Джига, — купил в метро за пятёрку. Там номер телефона». — «Ну ладно, — вздохнул Никифоров, — я бы смог автослесарем, а вот ты чего?» — «Я? — ответил Джига. — Я думал, они серьёзные люди, я был бы у них чем-то вроде менеджера».
Читать дальше