Он по-прежнему много читал. Но уже другие книги. Там было всё непонятно, и это было сродни глядению в ночное небо, где каждому различим хаос звёзд, а вот стройные хоры созвездий — единицам. Андрей читал разных философов, не зная основ философии, лишь смутно угадывая, что каждый философ хочет по-своему объяснить мир; читал об эстетике Возрождения, зная из всего Возрождения лишь три имени: Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи. Дождь новых имён обрушился на него но лишь звукосочетаниями да бессмысленными совпадениями удивляли имена — например, Николай Кузанский, это же почти что Колька Кузинский, который учился в параллельном классе и у которой Андрей однажды сменял сломанные настольные часы на парусничек в синей бутылке. Колька утверждал, что парусничку триста лет. А вот на бутылке Андрей потом с огорчением обнаружил трещину. Чтение непонятных книг, граничащее с безумием поглощение страниц давали неизъяснимое наслаждение прикосновения к миру титанов, гениев, к миру, где — Андрей был в этом твёрдо уверен — заключено и его будущее. Ему творить и жить наравне с титанами. И хотя будущее пока было неясным, но чем больше книг он прочтёт — и в этом Андрей был уверен! — тем скорое оно прояснится, тем скорее обозначится звёздная дорога к вершинам. Это тоже была своего рода игра, но игра особенная. Из непонимания, незнания, из механического прочтения рождалось некое подобие знания, его мимолётное зеркальное отображение, ибо так горда был молодая душа и так впечатлителен молодой мозг, так жаждали они насыщения, что были готовы питаться чем угодно, в том числе самыми недоступными книгами. В кажущейся недоступности материала, в плавании по книжному морю, следовательно, и заключалась игра, когда среди застилающих горизонт волн незнания вдруг вставали дивные острова с воздушными замками, вознаграждавшие Андрея за долгий труд. В такие минуты ему казалось, одно какое-то изречение, одна выхваченная из контекста мысль дают волшебный ключ к пониманию всего; казалось, горькая стариковская мудрость как бы пронизывает, и было даже не по себе: как жить с этой мудростью, как смотреть на людей, когда ты всё про них знаешь.

Ночью при свете настольной лампы листал он старинную книгу о Леонардо да Винчи, вглядывался в воспроизведённые на пожелтевших вкладках рисунки, чертежи, схемы, в написанные тайным зеркальным почерком стройки гения. Кровь пульсировала в висках. Нет, не знаний всё-таки искал Андрей в бесстрастных буквах авторского повествования. Знания как раз не так уж волновали Андрея. Иное рождалось для него на этом вот пергаментном листе, где раскинула руки обнажённая женщина. Груди её почему-то напоминали спелые, размягчённые снизу, осенние груши… Паутина цифр, неведомых слов вокруг. А в углу в тёмный клубок сбились зеркальные строчки, как грозовая туча. Здесь же чьи-то глаза набросал гениальный Леонардо. О, как жгли Андрея эти словно вчера нарисованные глаза! Незаконнорождённой сестрой знания было иное. Повторяя знание внешне, совершенно искажало его суть. Не работы для души искал Андрей в чтении, но наслаждения. А может ли из наслаждения родиться истинное знание? Нет, только иное! Впиваясь взглядом в жёлтую страницу, Андрей словно постигал некое изначальное, независимое от воли и желания человека значение жизни, огненно-холодной, как эти глаза, кричаще-бесстрастной, как эта страница. Словно в бездну проваливался Андрей, словно летел куда-то, надменно скрестив руки на груди.
Именно тогда впервые открылось ему сладостное чувство свободного полёта души, когда он как бы ощущал себя вне сущности, вне времени. Истинное знание воспитывает ум и душу, предполагает каторжный труд и только потом полёт. Иное дарует полёт сразу. Но не вверх — вниз! «Искусство, — бормотал в исступлении Андрей, — значит, лишь оно одно… И работа, и наслаждение, и всё сразу, и вверх, и вниз… Значит, лишь там мне будет… Что будет? Значит, лишь там я смогу… Да что? Что смогу, как и где? Лишь там, лишь там свобода…»
Не зная зачем — наверное, чтобы подольше не расставаться с книгой, не менять её сладчайший яд на вековечные сновидения подростка, — переписывал Андрей дрожащей рукой дневник Леонардо да Винчи: «Кажется, мне судьба — с точностью писать коршуна, поскольку одно из моих первых воспоминаний детства — как мне снилось в колыбели, что коршун открыл мне рот своим хвостом и несколько раз ударил меня им по внутренней стороне губ».
Читать дальше


![Юрий Котляр - Расплата. Памфлет [журнальный вариант]](/books/30263/yurij-kotlyar-rasplata-pamflet-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)


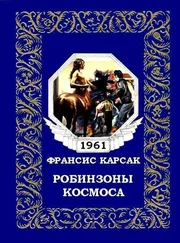




![Владимир Фирсов - Срубить крест[журнальный вариант]](/books/173679/vladimir-firsov-srubit-krest-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)

![Юрий Томин - Восемь дней в неделю [Журнальный вариант]](/books/428851/yurij-tomin-vosem-dnej-v-nedelyu-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)