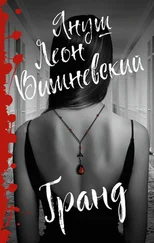Они долго стояли молча.
— Аня, мы справимся! Вот увидишь! — воскликнула мать. — Если они больше не прилетят и эта ночь наконец закончится, мы сначала вернемся на Грюнерштрассе. Если ее больше нет, выберемся из города и поедем... доберемся как-нибудь до Кельна. Под Кельном, в Кенигсдорфе живет папина сестра Аннелизе. Она всегда хотела, чтобы мы, когда все начало рушиться, переехали к ней. Она всегда твердила, что в деревне легче пережить такие времена. В деревне нет бомбоубежищ, зато есть молоко. Но твой папа не хотел уезжать из Дрездена. Он считал, что его место здесь. Здесь он родился, здесь всему обучился, здесь впервые меня поцеловал, здесь я родила ему тебя. Вот только умереть здесь ему не довелось, — вздохнула мать.
— Тетя Аннелизе стала еще большей чудачкой с тех пор, как умерла бабушка. Но это добрая и благородная женщина. Я обязательно должна написать тебе ее адрес на случай, если...
— На какой такой случай, мама? — прервала она нервно, почти истерично.
— На случай, если... что-нибудь произойдет с моим чемоданом и записной книжкой с адресами, — ответила мать, улыбаясь. — А сейчас я должна покурить, я очень хочу курить, — добавила она, скрутила две сигареты и, сжав обе губами, прикурила.
— Знаешь, твой отец рассказывал мне необыкновенные истории о небе, — начала она, глубоко затягиваясь и глядя вверх. — Он показывал созвездия и дарил мне звезды. Те, названий которых он не знал или их вообще не существовало, всегда получали мое имя, к которому он добавлял имя какой-нибудь богини. Когда родилась ты, он все их поменял на Анна, Аня, Аннушка, Анхен, Анечка, Анюта, Анеля, А1, 1А1, 11АН11 и так далее. Ты была для него всеми галактиками, всеми туманностями, всеми звездами и всеми планетами. Я иногда даже ревновала его к тебе.
Твой отец был романтиком, совершенно не приспособленным к этой жизни. Просто он родился слишком поздно и в совершенно не подходящем для него месте, — говорила мать, глубоко затягиваясь. — Я часто и сама не понимала: то ли он читает собственные стихи о своей любви ко мне, то ли декламирует Гёте или Байрона. Никто не любил меня так, как он. И никто так не признавался в любви. Никто. Понимаешь? Никто!
— А вот курить тебе не следует, — сказала мать, взглянув на дочь с улыбкой, хотя в глазах у нее стояли слезы. — Во всяком случае, при мне. Твой отец никогда бы мне не простил, что я это терплю.
Давай вернемся в церковь, становится холодно, — торопливо добавила она.
Лукас сидел, а мать и отец прижимались к нему, стоя на коленях. Еврейские родители обнимали и целовали голову еврейского мальчика в мундире гитлерюгенда. В церкви Анненкирхе, в умирающем Дрездене. В нескольких метрах от Альбрехта фон Цейса, который, как всегда, в галстуке и красной повязке со свастикой на левом плече сидел под Распятием и спокойно стриг ногти на пальцах ног. Рядом с двумя чумазыми белокурыми миловидными девчушками, которые локтями упирались о ступени лестницы, ведшей к разбитому мраморному престолу алтаря, и задумчиво смотрели на написанную на холсте Мадонну с младенцем.
Совсем как ожившее полотно «Сикстинская Мадонна» Рафаэля Санти.
«Гитлер, когда приезжает в Дрезден, всегда приходит со всей своей свитой посмотреть на эту картину, — вспомнила она слова отца, — сам не знаю зачем...»
В одну из суббот отец взял ее с собой в музей. Они провели там целый день. Она обожала рассматривать вместе с ним картины. Он видел в них то, чего она никогда бы не заметила. Она помнила, что они надолго задержались перед этой картиной Рафаэля.
— Веришь ли, Гитлер иногда изумляет меня своей чувствительностью, — сказал отец после минутной задумчивости, вглядываясь в огромное полотно, висевшее на стене. — Может, это всего лишь пропагандистский спектакль, тоска по несбывшейся мечте? А может, зависть, ревность и месть? Или он действительно что-то чувствует? Не знаю. Возможно, он понимает красоту и хочет, чтобы и другие ею восхищались? Иначе забрал бы картину в Берлин или в свой дворец Бергхоф в Оберзальцберге. А он этого не сделал. Хотя мог. Он ведь может в этой стране всё.
Ты знаешь, что Гитлер мечтал стать художником? Какое-то время это было его идеей фикс. Одной из многих. Хотя у него совсем нет таланта. Он дважды посылал свою бездарную мазню в венскую Академию художеств. В 1907 году его картины отвергли, годом позже он послал их снова. Венская комиссия и во второй раз дала ему от ворот поворот. Мне кажется, Гитлер очень тяжело пережил такое унижение. А ведь венские профессора-искусствоведы, если бы знали то, что мы знаем сейчас, могли изменить мировую историю. Разреши они ему заниматься живописью, у него, вероятно, не было бы времени писать «Майн кампф»... Многие считают, что антисемитизм Гитлера объясняется тем, что один из решающих голосов в этой комиссии принадлежал профессору-еврею. Мне кажется, это далеко идущее упрощение. Точно так же можно рассуждать о том, что Гитлер выбрал славян в качестве злейших врагов лишь потому, что какой-то поляк отбил у него невесту. Но все это неважно, я не о том хотел сказать...
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу