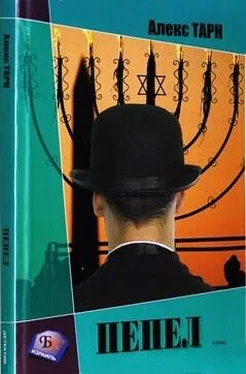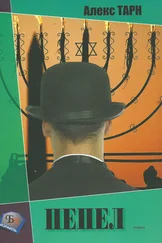Я боялась поднять на него глаза, просто стояла перед ним, дрожа, как осиновый лист и думая только о том, какой будет стыд, если мой мочевой пузырь со страху вдруг откажется слушаться. Удивительно, какие дурацкие мысли приходят человеку в голову в такие моменты… Перед моими глазами мелькали ярко начищенные сапоги Кенига; они расхаживали взад-вперед и скрипели в такт его воплям. От него воняло шнапсом и одеколоном.
Наконец он приостановился, перевел дух и раздельно спросил:
— Поняла, ты, старая шлюха? — и замолчал. Он молчал не потому, что ожидал какого-то ответа. Мой ответ значил для него не больше плевка на полу. Он просто делал паузу, как театральный актер, который хочет, чтобы его ударный монолог пробился поглубже в душу всего зала, или даже всего города, или даже всего мира. А потом он вдохнул, чтобы позвать вахтмана и сказать ему, что именно надлежит сделать со мной.
И тогда я услышала, как мой голос сказал:
— Я никогда не стану топить новорожденных детей. Никогда. — И этот голос звучал на удивление твердо, принимая во внимание общую дрожь и навязчивые мысли о мочевом пузыре. Кениг снова глубоко вдохнул, будто вынырнул. Я продолжала смотреть в пол и ждала. Но он молчал, да и сапоги куда-то исчезли из виду. Тогда я рискнула поднять глаза.
Доктор Кениг стоял у окна спиной ко мне и смотрел во двор. Думаю, что он почувствовал мой взгляд, потому что тут же сказал:
— Пошла вон отсюда. Вон!
Теперь он говорил очень тихо. Я поклонилась и вышла, и пошла назад в больничный барак. Я знала, что доктор Кениг продолжает смотреть на меня из окна, но другой дороги не было, так что пришлось протащить свои заплетающиеся ноги еще и через это.
Господь снова спас и меня, и дочку, уберег, исполнил свою часть договора. Значит, я должна была выполнять свою. И я выполняла, господин судья, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, не переводя духа, в течение двух лет. Один только раз прервалась ненадолго, когда свалилась от тифа. Но и тут выжила, справилась. Мы с Маришкой знали, что передать смену сестре Кларе и Рыжей Фанни означает убить несколько детей, пусть не своими руками, но все же… Поэтому мы делали все, чтобы работать и за себя, и за них. Они не возражали. Чем плохо валяться круглые сутки на нарах в блатном бараке, получая полный паек за двенадцатичасовой рабочий день? Правда, время от времени им становилось скучно, и они заявлялись в «родильное отделение» развлечься. Тогда мы с Маришкой уходили, чтобы не видеть. У нас не было армии, господин судья. А драться с Кларой было и глупо, и бесполезно. Честно говоря, и так никто в бараке не понимал, почему Кениг закрывал глаза на наши с Маришкой вопиющие нарушения приказа.
— Дура ты, Бронислава, дура, — говорила Клара, оглядывая нары, где плакали от голода и от холода, сосали пустую грудь, спали в предсмертной слабости полтора десятка младенцев. — Все равно ведь они не жильцы. Зачем же тогда мучиться?..
Фактически она была права. В конце концов, умирали все до единого, за редчайшим исключением. Средняя продолжительность жизни новорожденных составляла примерно две недели. Да и эти две недели были не сахар. Ну как тут не спросить: «зачем?» Но я-то знала, что это неправильный, сатанинский вопрос, который человек не имеет права задавать, а уж пытаться отвечать на него — тем более. Потому что жизнь есть жизнь без всякого «зачем». Не «приказ есть приказ», а «жизнь есть жизнь», вот в чем главное дело. И поэтому сестра Клара и доктор Кениг были несчастны, а мы с Маришкой — счастливы. Хоть на полминутки, но счастливы — когда мы подносили матери ее новорожденное чудо, смешно дергающее скрюченными ручками, когда видели ее глаза, гордые, испуганные и удивленные… и, знаете? — счастливые, да-да, счастливые…
Этого счастья было ничтожно мало там, в той смертельной клоаке, полной крыс-людоедов, четвероногих и двуногих, но оно там было, это счастье, и оно было настоящим.
А в мае приехал доктор Менгеле, и приказы изменились. Менгеле любил целесообразность. Зачем уничтожать то, что можно использовать? Мы получили новые указания. Теперь запрещалось топить всех младенцев подряд. От нас требовали производить селекцию в соответствии с внешними расовыми признаками. Светловолосых и голубоглазых детей немедленно отбирали и направляли в город Накло, на денационализацию. Так это называлось. Одни попадали в немецкие семьи, чтобы стать детьми немцев. Другие оставались в специальных детских домах, чтобы стать детьми фюрера. Им давались немецкие имена и фамилии. Во время войны легко придумать историю для безымянного младенца. Особенно, если отец не знает о его существовании, а матери суждено стать пеплом в печи крематория.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу