— Это другое, — сказала она тем же тоном, то ли игривым, то ли обвиняющим.
Кажется, ясно, к чему эти вложенные сны. Он прокрутил в голове сразу несколько ответов, но не успел выбрать ни один, а она уже говорила о происшествии в «Чаще»; возможно, здесь была какая-то связь с тем днем, который они провели вместе, и с ее снами — а возможно, и не было. Случилось вот что: возникла проблема с одним из беспокойных, блажащих пациентов, начальство не поняло щекотливости ее положения; кое-кто просто оскорбил.
— Боюсь, я не совсем понимаю, — сказал он, когда рассказ иссяк.
Она как будто рассказала о проблеме, чтобы он помог ее разрешить или по крайней мере вежливо и разумно откликнулся, — но он не понял, к чему это все было. Рассказ был похож на плохо смотанный моток пряжи. Чем дольше он с ней разговаривал, тем дальше она становилась, даже слова звучали неестественно и словно издалека — какие-то сигналы, а не человеческий голос.
— Ага. Да. Понимаю.
Боже. Ввязаться в это — значит потратить несколько безбожно нудных часов, почти без проблесков.
Он решил сменить тему на более пригодную для беседы.
— Между прочим, — сказал он. — Я тут думал о климаксологии.
— Господи.
— На самом-то деле это очень древняя система — расстановка вешек человеческой жизни. Ну, ты знаешь.
— Да, конечно.
— Почему совершеннолетие у нас — в двадцать один год, а не в двадцать?
— Ну да. Люди это инстинктивно чувствуют.
— Семь лет, — провозгласил Пирс. — Возраст Разума. Таков католический догмат. Возраст, после которого ты отвечаешь за свои грехи.
— Хм, — сказала она. — Правда? Ну, тогда…
— Этруски, — продолжал Пирс (он только что вспомнил об этом, ассоциации выскакивали одна за другой, как фрукты в окошке игрального автомата), — считали, что мужчина готов к общественной службе в возрасте тридцати пяти лет. У них этот принцип позаимствовали римляне. А у римлян — мы. Вот почему нельзя стать президентом, пока тебе не будет семижды пять лет.
— А ведь точно. Ага. Не клади трубку, карандаш возьму.
— Давай.
Где она? На другом конце провода чуть слышно пели птицы. Этруски на самом-то деле считали пятерками, пять лет — lustrum , [478]ну да не важно.
— Повтори-ка, — попросила она, вернувшись.
Он повторил. Когда-то ему пришла в голову мысль — продавать в деревенской лавке историю всем, кому понадобится, и тем зарабатывать на жизнь. В конце-то концов, кому история не нужна. Они снова, запинаясь, заговорили ни о чем. Он сам не понимал, что делает; она, пожалуй, тоже.
Они договорились о новой встрече. Разговор закончился внезапно, как у лошадиных барышников, которые прикидываются, будто говорят о погоде. Пирс осторожно положил трубку и долго сидел, не думая ни о чем: сидел, точно спиной к двери, в которую ломится орава мыслей.
Он обедал в «Дырке от пончика», под засиженным мухами вентилятором, чьи лопасти помешивали влажный воздух. Он сидел не в той кабинке, где обедал с Роз Райдер четвертого июля, а в другой, из которой видна была та. Пустая.
Вдруг он обнаружил, что заплатил по счету и ушел из кафе, даже не заметив этого, а сейчас стоит на Ривер-стрит, лицом к Блэкбери. Пожал плечами и прошел по мосту к Южному Блэкбери, менее населенному юго-западному берегу; вдоль реки тянулись заводы, дома рабочих и проржавевшие водонапорные башни. Не доходя до них, можно было увидеть несколько двухэтажных магазинов, бар, парикмахерскую, — казалось, они живы только накопленными запасами прошлых десятилетий. Одна из лавок была вроде универсального магазина. В ее широких окнах были выставлены несколько платьев, рулоны ткани и игрушки, и на каждом товаре — рукописные ярлычки с ценами; внутрь вели стеклянные двери в рамах из темного, уже много раз крашенного дерева. Пирс не помнил, стоял ли здесь этот магазин раньше. Да уж наверное, стоял, но улицы и дома, открывшиеся Пирсу, были столь милы для него и столь никчемны для мира, что, казалось, такой вид может лишь раз в столетие открыться перед заблудившимися путешественниками. Он вошел.
В помещении находилась лишь одна женщина в очках на серебряной цепочке, занятая разбором товара. Обычно Пирс, оставаясь с продавцом наедине, чувствовал себя очень неловко, но не сейчас. Спокойный и счастливый, он подошел к большим прилавкам, на которых рядами выстроились рубашки, сумки и духи, — излишки хранились под стойкой, в больших ящиках из лоснящейся древесины.
— Жарко сегодня.
— И правда.
— Могу я вам чем-нибудь помочь?
Читать дальше







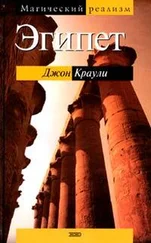

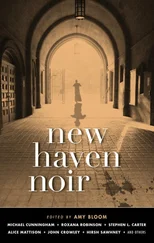
![Джон Краули - Ка - Дарр Дубраули в руинах Имра [litres]](/books/406053/dzhon-krauli-ka-darr-dubrauli-v-ruinah-imra-litre-thumb.webp)

