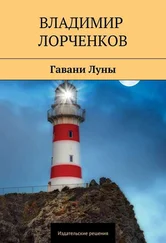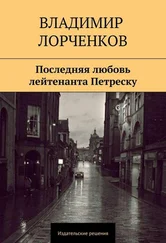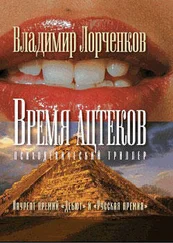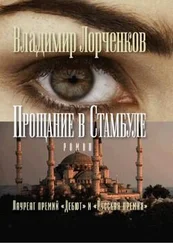… Подгребая левой рукой, Серафим крепко держал правой Василия и говорил то, что в овраге сказать не успел. А Василий улыбался.
— Мы попадем в Италию, — говорил Серафим, — и все изменится! Не станет в нашей жизни грязи молдавской, нищеты ужасной, которая в головах наших поселилась, как короста в плеши у нищего. Не станет поборов, унижений. Адского труда не будет, безысходности этой, от которой выть хочется громче, чем голодной собаке во дворе скупого попа.
Шум погони давно утих, и река тихо плескала в лицо им теплой водой, и ивы склоняли ветви все ниже.
— Там музеи и культура, — мечтал Серафим, — там даже воздух сияет светом; небо там сверкает лучами солнца, и сама земля цветет неувядаемыми цветами, полна ароматов и прекрасноцветущих вечных растений, приносящих благословенные плоды!
И друзьям казалось, что благоуханный запах этот уже витает над ними и над древней молдавской рекой Прут.
— Да и итальянцы, — говорил Серафим, — не такие хитрые, жестокие, злые и ленивые, как мы, молдаване. Не такие бездельники и бездари. Они даже одеты по другому. Их одежда такая же, как их страна. Веселая и праздничная! И люди там красивые. И все они в голос славят свою Италию, потому что ее есть за что славить. А не как Молдавию, которую нас призывают любить, но которая нам не мать, а мачеха!
Серафим еще очень долго говорил о том, какая это сказочная страна, Италия, и вода реки вторила ему, тихо-тихо, а потом в черном небе засиял месяц, и друзьям стало совсем не страшно. Не боялись они жирного сома на двести килограммов, который, говорили люди, в Пруте за последние два года пять человек за ноги схватил да на дно утащил. Не боялись змеи, которая по лунному свету может поползти на самое небо и оттуда упасть на голову человеку, который, ложась спать, не крестит потолок двумя пальцами. Плыли они по самому центру реки, и водовороты, завидев их, прикрывали свои черные, крутящие пасти. Коряги становились мягкими, словно волосы утопленниц. Рыбы выскакивали из воды, как озорные дельфины, чтобы поприветствовать Серафима и Василия. С озер, что лежат поблизости, доносился хор лягушек. И над всем этим благостным и негромким гулом возносился к вершине мира звон колокольчиков. И топот стад овец, бредущих куда-то по вытоптанным пастбищам и несущих на себе эти колокольчики. И в сердце Серафима впервые воссияла пустота предстоящей разлуки с нелюбимой, но все-таки родиной…
А у Василия сердца уже не было, потому что его разорвала пуля охранника.
***
Постояв немного по колено в воде и глядя на белое лицо друга, Серафим последний раз пожал его руку и отпустил Василия в последнее плавание. Адмиральскую фуражку к рукам Лунгу Серафим намертво привязал и очень жалел, что нет оружия, из которого можно было бы произвести прощальный залп. Ограничился короткой речью.
— Дорогой друг, — волнуясь, начал Серафим, придерживая Василия, чтоб течением не унесло раньше времени, — в эту тяжелую минуту расставания… нет, получается как-то официально. Прости, Василий. Гм. В свои самые лучшие дни покойный… нет, усопший…
Из-за холодной воды почему-то особенно остро болели колени. Серафим подумал, рубанул воздух рукой и заговорил вновь:
— У меня есть мечта. Если Бог все-таки существует, я бы хотел, чтобы рано или поздно, он собрал всех нас. Униженных и обездоленных, оскорбленных и нищих. Собрал твою жену Марию, тебя, меня, деда Тудора из села Ларга и еще три миллиона молдаван, ну, а может, еще и немножечко цыган, и посадил нас по правую руку от себя. И чтобы мы посмотрели друг на друга и забыли о том, что есть боль, которую причиняли близким, и стали жить в раю, как в Италии. И чтобы после смерти в Италии мы получили все то, что нам не дали при жизни в Молдавии…
Закончив, Серафим прислушался. Река шумела неодобрительно. И даже надломанное дерево у ближайшего поворота скрипело как-то недовольно. Действительно, не прощание какое-то, а программная речь получилась, недовольно подумал Серафим. Вздохнув, он перекрестился и сказал:
— Извини, Василий, и этот вариант какой-то… не такой. Сейчас… По-другому придумаю…
Так он пытался сказать речь почти день, пока даже покойный не выдержал и не возмутился, сказав:
— Мэй [17] обращение к мужчине, что-то типа «эй» — прим. авт.
, Серафим, что ты тянешь, как кота за хвост?! Будь мужчиной! Раз-два, прощай дорогой друг, ты был надежный товарищ и верный муж, три-четыре, и предал тело воде!
Виновато покивав головой, Серафим так и сделал. И заплакал, глядя, как тело Василия скрывается за поворотом. И плакал до самой Ларги, куда пришел на следующий вечер в сумерках, которые тем темнее под небом свисали, что на окраине Ларги горел факел. Подойдя к нему поближе, Серафим глядел на горящий столб. Огромный столб высотой в три метра. Он пылал, трещал, брызгался искрами, горячим жиром, грязными ругательствами и предсмертными проклятиями…
Читать дальше