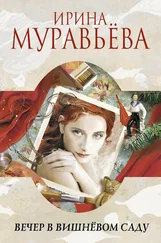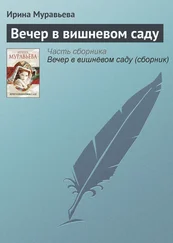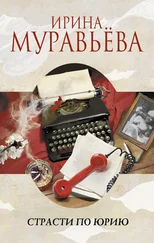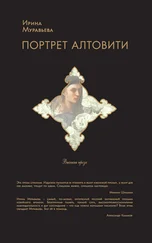– Они отмывают у нас свои деньги, – сквозь зубы сказал наконец Бенджамен Сойер своему соседу. – А Мусоргский их прикрывает, они ему платят. Devil’s advocate! [83]
В конце концов Саския разрыдалась, согласилась не доводить дело до суда, и на этом все кончилось. Расходились мрачными. И преподаватели, и студенты чувствовали, что на их глазах совершилось какое-то очень нечистое дело, и им ничего не осталось другого, как только признаться в своем поражении.
Нью-Йорк, наши дни
Стояли первые дни нового года. Ушаков жил теперь в Нью-Йорке, в квартире, которую он снимал в самом центре Манхэттена, поскольку вермонтский дом был уже продан и делать в Вермонте совсем стало нечего.
Одиннадцатого января ему предстояло важное событие – доклад на международной антропологической конференции, посвященной фундаментальным качествам биологической ценности человека. Все эти месяцы, прошедшие с июля, Ушаков старался заниматься исключительно практическими делами: продажей дедовского дома, упаковкой картин и книг, поиском квартиры в Нью-Йорке, восстановлением профессиональных контактов. И все вроде вдруг начало получаться. Он в значительной степени перекрыл кислород, идущий к душе, и душа начала задыхаться. Но поскольку это ее состояние плохо сказывается на жизни всего организма, Ушаков обманывал себя тем, что был вечно в делах, которые поддерживали его телесную жизнь настолько интенсивно, что даже болезнь души шла почти не замеченной. На двери его рабочего кабинета висела табличка «Doctor Ushakoff». Табличка эта ненавязчиво дополняла достойный облик пятидесяти с небольшим, весьма привлекательной наружности, задумчивого человека, выросшего в Париже, в семье белых эмигрантов. (История, значит, в наличии тоже!) А сам он – в прекрасном пальто, белоснежной рубашке.
Именно таким – в прекрасном широком пальто, с шарфом, небрежно засунутым в карман этого пальто и оттопырившим его, – ровно в девять часов утра Doctor Ushakoff вошел в зал, где столы были сервированы к завтраку, кипел в серебристых кофейниках кофе и оживленно-сдержанный гул разговоров, теплом и приветом разлившийся в воздухе, казалось, имел тот же вкус, что и сливки. Ушакова тотчас же окликнули, и тотчас же, привычно улыбаясь уголками губ, он бросил свое пальто на спинку стула, подсел к знакомым, намазал хрустящую булочку маслом. Он вел себя так, как будто содержание доклада, который он собирался произнести сразу же после того, как закончится завтрак и все перейдут в другой зал с расставленными стульями и большой грифельной доской, – содержание, стоившее ему много сил и истерзавшее его, не имеет к нему самому, спокойному, слегка задумчивому и в меру приветливому человеку, никакого отношения. Но именно это и было неправдой. То, что Ушаков собирался сейчас, дожевав свою булочку и вытерев салфеткой губы, произнести, не только имело к нему самое прямое отношение, но, более того, появилось исключительно благодаря тем переживаниям, которые жили внутри самого Ушакова, как рыбы живут подо льдом водоема. Тема сегодняшнего выступления его на конференции была обозначена следующим образом: «Личностный статус покаяния как проблема философской антропологии». На каждый доклад полагалось от двадцати пяти до тридцати минут, и Ушаков понимал, что он ни за что в этот срок не уложится.
– Философия, – сказал он, надевая очки и раскрывая лежащие перед ним листы напечатанного текста, – это интеллектуальная авантюра, которая набирает материал за пределами индивидуального человеческого «я» и вроде бы не связана с ним напрямую. Но это только кажется. Наличие этого «я» и есть непременное условие любого философского вывода и положения.
…он снял очки и почувствовал себя так, как это бывало в детстве, в летнем разведческом лагере, где они с Иллариошей Воронцовым соревновались в храбрости: нужно было с максимальной скоростью домчаться на велосипеде к самому краю обрыва и успеть остановиться на самом краю так резко, что вокруг начинала немного дымиться трава.
– Аристотель, – продолжал Ушаков, надевая очки, – считал, что только «удивление побуждает людей философствовать». При этом Декарт уверял, что это удивление вызывается только «исключительно редкими вещами». Насколько же «редкой вещью» является человек? И, более того, не является ли именно человек массовым и типовым существом, а философия, находясь по другую сторону так называемого «здравого смысла», свойственного этому существу, стремится иметь дело не с ним и не с его серийностью, а взрывает эту серийность, ломает устойчивые тождества и, стремясь освободиться от навязанного ему «здравого смысла», переступает и через него, и через любую обыденность.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу