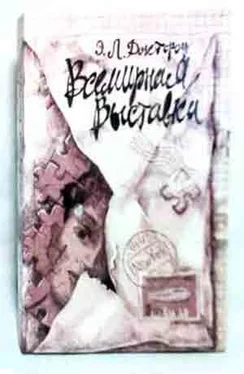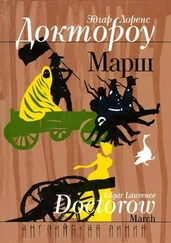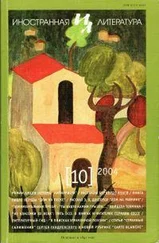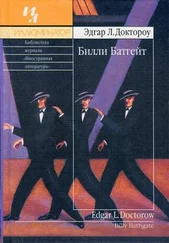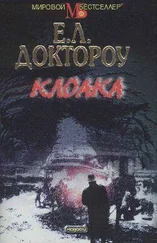Это противоборство родителей было, пожалуй, главным непрестанно сопутствующим обстоятельством моей жизни. Напряженность между ними не ослабевала ни на миг. Их брак был неустранимым конфликтом двух соединенных вместе противоположностей. Их несходство порождало нечто вроде магнитного поля, бросавшего меня то туда, то сюда, смотря по тому, в какую сторону в данный момент шел ток. Мой брат, с его любовью к правилам и дисциплине, похоже, в большей степени уподоблялся матери. Я, более тихий, пассивный, мечтательный ребенок, относился с определенным пониманием и симпатией к отцу — сейчас я осознаю это как сочувствие душе, изначально свободной, но в великодушном и простительно непрактичном порыве связавшей себя с царственно подавляющей ее душой привлекательной женщины.
Единственной слабостью моей матери была игра на пианино, в которой она была большим мастером, как и во всем, что она делала. Еще в девушках она сама себе зарабатывала на уроки музыки, аккомпанируя на сеансах немого кино. Играла очень хорошо. А больше всего мне нравилось то, что, когда она усаживалась за инструмент, ее всегдашняя наставительная суровость отступала. Лицо становилось мягче, в глазах появлялось сияние. Она садилась очень прямо — королева, да и только, — руки держала на отлете, и весь дом полнился прекрасной музыкой, представлявшейся мне в виде радуг или водопадов. Поставь перед нею любые ноты, и она запросто прочтет их с листа. Когда Дональд возвращался домой из музыкальной школы «Бронкс-Хаус» с заданной ему новой пьесой, обычно он просил мать сыграть ее, чтобы стало понятно, как она должна звучать.
Дональд подбирался к "Für Elise" Бетховена. А шумановского «Смелого наездника» он к тому времени уже превзошел.
Меня в свой черед тоже ждали уроки фортепьяно. А пока я только баловался с клавишами, наудачу пробовал звуки и экспериментировал с настроениями и чувствами, которые мне удавалось в себе пробуждать, ставя пальцы на несколько клавиш сразу и нажимая.
В отцовском магазине рядом с кассовым аппаратом на прилавке под стеклом были разложены игрушечные музыкальные инструменты. Каждый из этих инструментов был и у меня. Я свистел в грошовую свистульку, дудел на губной гармошке, точь-в-точь такой же, как в морском оркестре братьев Хонер, выдувал звуки из окарины, которую еще называют картофелиной из-за ее формы.
Проще всего было управляться со штуковиной под названием «казу»; ее, в общем-то, даже и инструментом не назовешь — просто овальная жестяная труба, в которой где-то посередине длины натянута перегородка из вощеной бумаги. Дуешь, бумага вибрирует, и "voilà", как говорил мой папа, — ты уже музыкант.
Я обожал маршировать по коридору из задней комнаты, которая была моей, к парадной двери, одной рукой прижимая к губам эту самую казу, а другой, с зажатым в ней флагом, размахивая в такт.
Мы жили в доме 1650 по Ист-берн-авеню. Занимали первый этаж, а хозяева (их фамилия была Сегал) — второй этаж, верхний. Чтобы подчеркнуть свое отличие от тех, кто живет в многоквартирных доходных домах, из которых Бронкс главным образом и состоял, наш дом мы называли «частным». Он был из красного кирпича и с плоской крышей. На улицу выходила стеклянная дверь и крыльцо с восемью гранитными ступенями. По одну сторону крыльца, под окнами нашей гостиной, был маленький квадратик земли, с трех сторон обнесенный кустиками бирючины. Тут я строил дома и дороги — кстати сказать, воздвиг целый город для общины маленьких рыжих муравьев, и хотя они не желали селиться в предназначенных им жилищах, мой пыл это не охлаждало.
Помню, какой был свет на Истберн-авеню. Он лился теплыми слепящими потоками и словно отмывал, отбеливал желтоватые и бурые кирпичные стены, тротуары, как бы линованные в клетку, синий диабаз мостовых бельгийского квартала, все это соединяя в простую и мирную картину.
Дома представлялись мне высшими существами, ведущими между собой неслышную беседу.
В полдень солнце посверкивало на крыше моего любимого игрушечного грузовика, который был точь-в-точь как те грузовики компании «Рейлвей-экспресс», что доставляли иногда товары в дома по соседству. Мой был темно-зеленым, с мощными, такого же зеленого цвета колесами, оправленными в твердые резиновые шины, и с красными надписями «Рейлвей-экспресс» по бокам, выполненными особым шрифтом в разухабистом стиле Дикого Запада. На двух задних дверцах были защелки, они отмыкались, и дверцы распахивались совершенно как у настоящей машины. Рулевое колесо, причем действующее, стояло в точности под тем углом, как полагается, то есть неукоснительно горизонтально и на абсолютно вертикальной колонке. Звук мотора — надрывный утробный вой — я добавлял от себя. Еще мне очень нравилось толкать грузовик через трещины в тротуаре и заставлять его переползать препятствия типа камней и палок.
Читать дальше