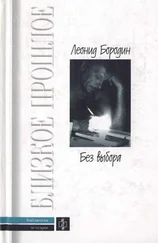Мне же, если говорить откровенно, всегда было тяжело слушать Ри. Но еще тяжелее было рассказывать ей о моей и вообще о нашей жизни, когда она меня просила об этом. Многое она не могла понять, многое изумляло ее, я же часто ловил себя на том, что стараюсь рассказывать неинтересно, потому что ее интерес к жизни за каменными стенами замка мог только обострить боль заточения.
Для себя я знал одно: я должен вывести ее отсюда, я должен спасти ее, хотя бы только ее! Уж не говорю о Байколле, даже щенок, молчаливый собеседник наш, и тот своим грустным видом мог разжалобить кого угодно!
И только Сарма, будто сама став каменной в своем каменном кресле, ничего и слушать не хотела о прощении узников. Я уже не заикался об этом. Я теперь пытался выяснить отношение Байколлы и его дочери к возможности освобождения. Несколько раз я пытался заговорить на эту тему, но Байколла отмалчивался, Ри печально качала головой, и лишь однажды, когда я слишком настойчиво насел на них, Байколла сказал мне:
— Дочь моя рассказала тебе предание, и ты знаешь, какой ценой и каким чудом обрел наш народ Долину жизни, и моя вина не только в гибели сына Сармы, это для нее — все горе только в этом, для меня же еще тяжелее гибель Долины и все, что, наверное, пришлось перенести моему народу, покинувшему Долину. Слава звездам, что мне о том ничего не известно!
— А Ри! — воскликнул я. — Она при чем здесь! Она за что!
Еще угрюмее стал Байколла.
— Она ни за что! Она есть мера моего наказания!
— Это все Сарма! Она толком не разобралась, вредная и злая старуха! — крикнул я, стукнув кулаком по полу.
— Старуха? — спросил Байколла. — О ком ты говоришь?
— О Сарме, о ком же еще!
— Сарма стала старухой?! Но ведь она знала тайну вечной молодости!
Я пожал плечами:
— Она старая и противная, как сто самых старых и противных старух.
Байколла задумался, покачал головой.
— Значит, ее горе оказалось сильней вечной молодости!
— А может, не горе, а вредность! — проворчал я.
— Нехорошо так говорить! — укорила меня Ри, а я аж зубами заскрежетал от досады: Сарма лишила ее счастья жизни, а она ее защищает! В тот раз я вышел из замка более, чем прежде, злой на Сарму. Когда подошел к ней, захотелось сказать ей что-то обидное, и я спросил, будто так, между прочим:
— Вот Байколла говорит, что вы знали тайну вечной молодости, а почему же вы стали такой старой?
— Старой? — шепотом спросила Сарма. — Ты говоришь, я стала старой?
Рука в голубой перчатке взметнулась вперед, в руке появилось круглое зеркальце. Старуха взглянула в него, глаза ее расширились, она поднесла зеркальце ближе, рот ее раскрылся, лицо, и без того страшное, перекосилось, она задрожала вся и вдруг с силой швырнула зеркальце в боковую стенку скалы, и тут же эта стена сначала осела, как сугроб, и в то же мгновение рухнула вниз.
Сарма вскочила с кресла и закричала так, что у меня волосы встали дыбом. Она скинула с головы голубой капюшон и вцепилась руками в свои белые, как снег, волосы. Потом она сорвала с руки голубую перчатку и обезумевшими глазами уставилась на свои желтые костяшки пальцев и снова закричала страшно и дико, а кругом падали камни и устремлялись вниз. Облако пыли поднялось над скалой, и в этом облаке кричала и металась старуха в голубом одеянии.
Мне стало так страшно, что ноги сами вынесли меня на спуск, и я, не обращая внимания на срывающиеся с уступов камни, на грохот настоящего обвала буквально в двух метрах от моего места спуска, кинулся вниз; забыв про осторожность, я словно скатывался со скалы, спасаясь от преследующего меня истошного крика Сармы.
Уже внизу под самой скалой что-то ударило меня по голове сзади и начисто отключило от всего этого кошмара.
Обиднее всего было утверждение Генки, будто я кричал, испугавшись обвала. Но не мог же я объяснить, что кричал вовсе не я, а Сарма, да и кто поверил бы такому объяснению!
Генка со своим дедом возвращались из тайги с сеном на волокуше и услышали обвал и крик. Они нашли меня у подножья Мертвой скалы с разбитой головой, всего в крови, и сначала подумали, что я уже мертвый. Они принесли меня в поликлинику поселка, что находилась на самом берегу Байкала, и первое, что я услышал, когда пришел в себя, это шум волн за раскрытым окном. Потом я почему-то увидел Генкиного деда, и мне показалось, что это Байколла, потому что у деда была такая же белая борода и в глазах тоже было что-то невеселое, похожее на постоянную печаль в глазах Байколлы. Я долго и пристально смотрел на деда, и, хотя в голове у меня было больно и шумно, я все же сообразил, что это не Байколла, и опасный вопрос не сорвался с моего языка.
Читать дальше