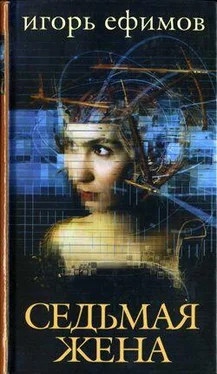Одна из красоток подняла голову (не могла же она услышать?), обвела розовым взглядом морские дали, поерзала, устраиваясь поудобнее в шезлонге.
На палубу поднялся задумчивый Рональд. Он подошел к загорающим сиренам, протянул им левое запястье, отвернулся. Они стали что-то говорить ему, поглаживать по руке, тормошить. Ингрид поколдовала над часами, снова попыталась разговорить печального заложника. Он слушал с молчаливой покорностью ученика, навеки утратившего веру в слова наставников, но вынужденного терпеть их и подчиняться. Потом так же молча удалился.
Сирены включили приемник, начали подпевать шведской песенке, покачивать в такт головами. Их безмятежность была обидна, неподдельна, заразительна. Да, жизнью можно наслаждаться, даже путешествуя со смертником на борту. Нужно только выработать правильное отношение. Нужны терпимость и понимание. Голая ненависть Пабло-Педро бесплодна и несправедлива. И то, что Антон снова и снова вызывал его на обсуждение ситуации, было всего лишь машинальным действием, как щупать рукой набухающий нарыв – достаточно ли горяч?
– Я читал, что на переговоры с террористами теперь вызывают целую команду специально обученных психологов. Но этих даже и террористками не назовешь. Они ведь ничего не требуют. Все время извиняются за беспокойство. Только довезите их по назначению – ничего больше им не надо.
– Вот отсюда, с этой точки, могу скосить одной очередью…
– И, через двенадцать часов? Ты сам переведешь стрелки на часах? Нет, сегодня за обедом попробую еще раз уговорить их. Дам твердое обещание доставить в хельсинкский порт и не сообщать полиции. Да простят меня финские филателисты.
– А мне очень хотелось бы спросить нашего адмирала, откуда эти девки узнали, что «Вавилония» будет в Дувре в этот день, в этот час. Конечно, он опять скажет, что это случайность. И сколько еще таких случайностей он приготовил нам впереди?
– Ты снова за свое.
Разговор был круговым, бесплодным, как скачки на карусельных лошадях. Антон махнул рукой и вышел. Подумав, отправился в пассажирский отсек. На всей «Вавилонии» оставалось единственное место, где можно было отдохнуть от тикающего кошмара, – каюта Мелады. Ей решено было ничего не рассказывать. Просто взяли на борт двух прогрессивных попутчиц, у которых не было денег на самолет.
Попутчицы забегали к больной выкурить сигаретку и поболтать. Антон же просиживал у ее постели часами. Мелада расспрашивала его о жизни в Америке, рассказывала о себе. Она радовалась его приходу. Приподымалась с подушки, хватала левой рукой расческу, приглаживала волосы, поправляла воротник халатика. Она хотела все знать. Отличница, забрасывающая профессора больными вопросами, ставящая в тупик.
Сегодня она попросила его рассказать про детство. Про учителей, про родителей, про школьных товарищей. В каком классе у вас сообщают детям, что все люди смертны? Когда начинают изучать тычинки и пестики? Ведь это так важно в годы созревания. Нет, она не верит, что все дети втайне мечтают отбить для себя маму от папы или папу от мамы. Она надеется, что когда-нибудь теории венского профессора выйдут из моды. Но вообще детский эгоизм очень силен, и победить его крайне трудно.
Она, например, до сих пор помнит тот день, когда она сама – в первый раз! – отдала соседской девочке пластмассового пупса в ванночке. И вовсе не потому, что он ей надоел. Ей жалко было с ним расставаться. И ей не очень нравилась соседская девочка. Просто она в тот день поверила в то, чему ее учили с младых ногтей. Что отдавать – всегда хорошо. А брать – всегда плохо. Ей очень, очень хотелось быть хорошей. А он? Помнит он самый важный день своего детства? Что это было?
Конечно, он помнил. Это был день, когда он познакомился на пляже с девочкой Робин. Ему было лет шесть. Они зарывали друг друга в песок, и он все время старался касаться длинных вьющихся волос. А потом мама Робин сняла с нее штанишки и велела бежать в воду и смыть весь песок. И оказалось, что Робин – мальчик. Просто у него были длинные волосы и тонкий голосок и девчоночья привычка надувать губы. Но Антон понял это только потом. А в тот момент он замер, онемел от ужасного разочарования. Оказалось, что под штанишками у мальчиков и девочек все одинаковое. Откуда-то он догадывался и знал (и надеялся?), что должно быть разное. А тут – такой удар.
Нет, его горе было ей непонятно. Если бы штанишки сняли с него и весь пляж увидел и смеялся над ним… Да, такой позор она бы запомнила надолго. Но родители никогда бы не поступили с ней так. Даже в наказание. Если она делала что-нибудь запрещенное, ей говорили «дрянная девчонка», и этого было довольно. Быть «дрянной, плохой», рассердить родителей – вот что казалось самым страшным в детстве. У отца было много разных гневов: на детей, на жену, на подчиненных, на собаку, на продавцов в магазине, на сослуживцев, на судьбу, на врагов страны… Кажется – никогда на начальников. Впрочем, это просто сорвалось у нее с языка. По-русски она никогда не смогла бы выговорить такое про отца.
Читать дальше