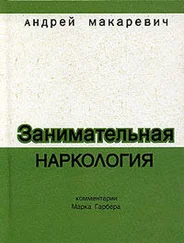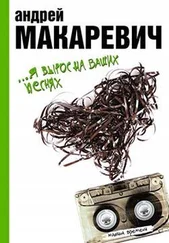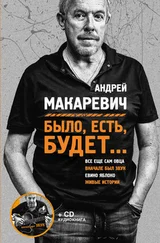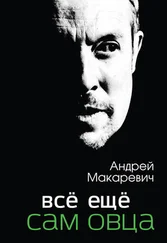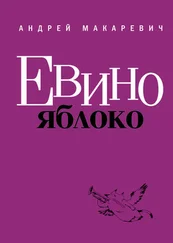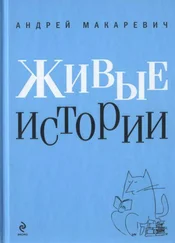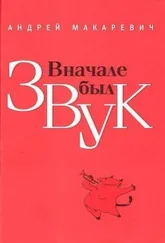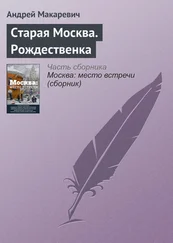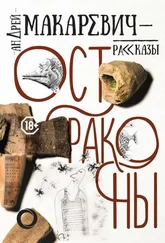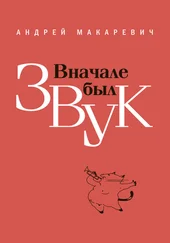С рыбой же отдельная история. В путешествиях есть мне приходилось все что угодно. Не смог я употребить в пищу только два продукта. Личинку майского жука из китайского салата. И второе блюдо в моей жизни — старинная русская еда «кислая рыба». Делается так: пойманную рыбу (в нашем случае это была щука, дядя Коля говорил — «шшучка») чистят, потрошат, сильно солят, кладут в миску, заливают кипятком и ставят в теплые сени дня на два-три. Все. По истечении срока рыба — как бы это сказать? — нет, не тухлая. Она скорее бродит. И становится от этого мягкая. Тогда ее берут за хвост и стряхивают одним движением в тарелку. Скелет в руке, деликатес на столе. Причем это — самое обязательное блюдо: хлеба на столе не будет, а кислая рыбка — всегда. Запах у кислой рыбки, не побоюсь этого слова, чудовищный. Стараясь не обидеть хозяев, я попытался убедить себя, что это вовсе не разлагающаяся плоть, а такой сильно пахнущий сыр «рокфор», и этого самообмана даже хватило на то, чтобы положить кусочек в рот, — и тут все рухнуло. Не выдержал, побежал на крыльцо. Дядя Коля и бабка Мария очень смеялись.
Так вот, консервы пришлось со стола убрать. А от привезенной бутылочки хозяева не отказались. После третьей рюмочки дядя Коля достал древний, по-моему, трофейный, аккордеон и запел. Играл он не очень — правая рука знала два аккорда, а левая жила в басах как бы сама по себе. А пел замечательно, и лицо его в этот момент хранило строгое и печальное выражение — как на молитве в храме.
Назавтра Танька сообщила, что бабки вечером соберутся в клубе петь старинные песни — фактически в честь нашего приезда (клуб — обычная пустая изба с большим столом посередине и двумя лавками по бокам). К тому же у запевалы бабки Степаниды случился день рождения, так что надо сходить в лавку и купить пару бутылочек сладкого вина. По счастью, вино в лавке оказалось.
На протяжении дня все бабки по очереди стучались к нам в окошко, и каждая сообщала Таньке, что именно она сегодня прийти не сможет — корова недоена, спина болит. Танька только посмеивалась: все придут! К вечеру бабки пошли по второму кругу уже с другим вопросом: «Татьяна Игоревна, так одеваться?» Я ничего не понимал.
В клуб-избу мы пришли, когда уже стемнело. На столе шипел самовар, кто-то принес шанежки. Я хотел сразу выставить вино на стол, но Танька на меня зашипела — только после того, как про день рождения вспомнят! А потом стали подходить бабки. И я понял, что имелось в виду под словом «одеваться» — бабки нарядились в старинные праздничные платья. Танька тихонько рассказывала, что некоторые платья — это платья бабушек этих бабушек, а жемчуг на них — речной, местный, а аглицкому репсовому шелку, из которого вставки, вообще бог знает сколько лет и неведомо как он сюда попал, не иначе поморы в Швецию да в Англию ходили. А петь старинные песни не одевшись — не принято.
Среди бабок выделялась бабка Аглая. Трудно у деревенской бабушки определить возраст на глаз, но я думаю, ей было далеко за шестьдесят. Я в жизни не видел настолько красивой женщины. В осанке ее, в каждом движении и жесте виделись такая стать и благородство, что у меня шли мурашки по коже — голубая кровь! А в лице ее проступал лик Богородицы со всех икон сразу. Бабки пили чай, тихонько хихикали между собой, стеснялись. Ждали Степаниду. Она явилась последней и оказалась озорной бабулей в очках со стеклами небывалой толщины и почти без зубов, что ее абсолютно не смущало. Минут через десять «вспомнили» про день рождения, я достал бутылки, и бабки запели.
Северное пение не похоже ни на какое другое народное пение. Во-первых, отсутствует многоголосье. Запевала начинает, и хор подхватывает в унисон. И просто тебе вдруг становится совершенно ясно, что именно так пели и сто, и тысячу лет назад, и нету в этом никакой школы, а только не умершая традиция — от матери к дочке, от бабушки к внучке, и научить этому нельзя, с этим можно только родиться и вырасти, и жить это пение будет, пока не прервется нить, связывающая нас с нашими предками.
А потом вино кончилось, но откуда-то появилось еще, и бабки запели частушки. По их определению, «матерушшие». Всякие я слышал частушки — но выяснилось, что ничего я не слышал. Причем бабушки веселились, как дети.
В гостях у бабки Матрены, куда Танька повела меня пить чай («пить чай» — это значит, все, что есть в доме, ставится на стол, а после слов «ой, да гости замерзли!» появляется еще и самогон), я увидел маленький самовар — он стоял на буфете. Чем-то этот самоварчик меня очаровал. Интимный. Такой должны были подавать в светелку молодым. Я стеснялся завести разговор о самоваре. «А чего ты стесняешься? — удивилась Татьяна. — Предложи продать. Только обязательно скажи, что чай из него пить будешь». Что-то в этом роде я и пробормотал. «Ой, дак нет, парень, самовар-то мне в память от деда достался, не могу», — ответила бабка Матрена и — позвала нас пить чай завтра. Танька удивилась, увидев мое огорчение. «Да совершенно точно отдаст! Просто нельзя сразу. Вот завтра увидишь!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Андрей Макаревич Не первое лирическое отступление от правил [сборник] обложка книги](/books/29853/andrej-makarevich-ne-pervoe-liricheskoe-otstuplenie-cover.webp)