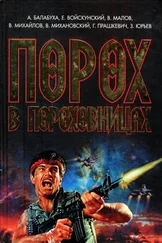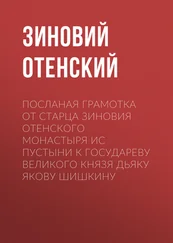И вдруг этот, неведомо откуда явившийся наглец — из неведомых мне кругов с сомнительной политической родословной — ткнул в меня пальцем и заорал: а король-то голый! Вооруженный до зубов ежедневностью быта своей страны, которая для меня давно превратилась в фикцию податливой уму памяти, он заявлял, что эта страна существует сама по себе, вне зависимости от моего личного к ней отношения и хитроумных махинаций с прошлым, и существует она не такой, какой требовалось для моего душевного комфорта. Я же выходил примазавшимся, попутчиком русской истории, торгующим на сторону. И с тошнотворной ясностью я различил в себе, как на рентгеновском снимке, эту саркому его России, мешающую мне дышать, пробирающуюся в мозг метастазами. Все что говорил этот гад о России, о Советском Союзе было непреложной правдой. Гад был прав. Гад был прав исторически. Если ты умеешь разгадать все историческое зло и следовать этому злу на десяток лет вперед, ты никогда не ошибешься. История всегда на стороне гадов. Гады всегда на стороне истории. Единственное спасение — выпрыгнуть за борт парохода истории, без спасательного круга, прямо в штормовое море внеисторичности, вневременности. Но ведь и этот хаос за бортом, как всякая вечность, не знающая конца, смерти, то есть жалости, отличается от зла исторического лишь тем, что этот хаос лишен логичности, которая обретается историей постфактум; добро — лишь редкое мгновенье, узкий промежуток, случайно остановившееся время, миг нелогичности в злой цепочке причин и следствий, двурушник меж двух зловещих альтернатив вечности. И может быть, прыжок с борта в пучину и дарует это мгновение подвешанности, мгновение добра между злым хаосом рождения и историческим злом смерти. Гад был прав, а я нет. Гад обладал душевной цельностью. Я был двурушником. Но я предпочитал это двурушничество, этот затянувшийся полет самоубийцы, пытающегося собраться с мыслями в короткий промежуток между рождением и смертью. Тут меня и сбил мотоцикл.
Я переходил, как помню, Шафтсбери авеню, одну из широких центральных улиц. Это одна из огромных лондонских улиц, где в середине пролегает узкая полоска бетона, вроде фиктивного тротуара, разделяющего движение на две половины. Перед тем как пересечь улицу, я, естественно, как и полагается в стране с левосторонним движением, повернул голову направо, дошел до середины, до этой бетонной полоски, и там задержался, задумался над очередным метафизическим поворотом вышеописанного разговора. Добравшись мысленно до соответствующего умозаключения, я решил возобновить свой маршрут и перед тем как пересечь вторую половину проезжей части, снова повернул голову направо. Трудно объяснить, почему я, уже десять лет живущий в этой стране, повернул голову в неверную сторону. Возможно, я, стоявший на этой промежуточной полоске посреди улицы, вообразил, что стою на тротуаре и лишь начинаю пересекать улицу — с английским, левосторонним, движением, и потому снова повернул голову направо. Но, возможно, стоя на этом фиктивном тротуаре, и перебирая в памяти разговор на российскую тему, я перепутал страну своего пребывания и, вообразив, что стою посреди московской улицы, повернул голову направо, по-советски. Я даже помню свое удивление при виде пустынной улицы: надо же, центр города, середина дня — и ни одной машины! И я шагнул. Тут-то на меня и налетел — слева — мотоцикл. "Конец", — подумал я, падая на асфальт.
Мне повезло: мотоциклист успел нажать на тормоза в последний момент и лишь сбил меня с ног. Я помню ощущение не столько боли от падения, сколько позора из-за нелепости всей сцены. Еще ничего не чувствуя, я тут же вскочил на ноги и стал уверять мотоциклиста, с побледневшим от ужаса лицом под шлемом, что во всем виноват исключительно я, и просил извинить меня за происшедшее недоразумение. Успела собраться толпа, кто-то кричал, звал скорою помощь, к мотоциклисту приближался полицейский, но я уже шагал, преувеличенно уверенным широким шагом в сторону Пикадилли. И лишь в метро, ожидая на платформе поезда, я почувствовал, что не могу ступить на левую ногу. А когда вернулся домой, уже не мог вытащить распухшую ногу из брючной штанины. Перелома никакого не было, но даже по квартире я не мог продвигаться без костылей. Во время этого неожиданного домашнего ареста, вторую неделю созерцая каждое утро, как распухшая нога с кровоподтеком меняет цвет от небесного темно-голубого до трупно-зеленого, я, помня адвокатскую просьбу, пытался сварганить нечто вроде свидетельских показаний на тему трактата Константина, честно стараясь преодолеть личное отвращение ко всей этой истории и быть, по возможности, объективным. У меня ничего не получалось. Однажды утром я сел за английскую машинку, чтобы сочинить письмо адвокату с вежливым отказом от выступления на суде по причине резкой боли в левой ноге, когда в почтовую щель просунули утренний выпуск "Таймса".
Читать дальше


![Зиновий Зиник - Русская служба и другие истории [Сборник]](/books/26974/zinovij-zinik-russkaya-sluzhba-i-drugie-istorii-sbo-thumb.webp)