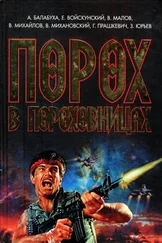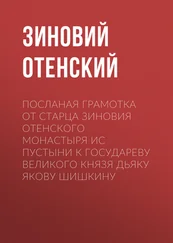Все это вызвало жуткий фурор в прессе. Посыпались протесты буквально со всех сторон. Организации по защите прав гомосексуалистов собирались подать в суд за распространение фашистской пропаганды; феминистские организации — за распространение клеветы и диффамацию. Короче говоря, фотографии Марги, склоняющейся над плачущей Клио (две лесбиянки!) или же Антони с рукой на плече у Колина в офисе (гомосексуалист, пытающийся завербовать своего любовника на службу советской разведке!) запестрели в "желтой" прессе, и каждый из нас волей-неволей оказался вовлеченным газетами в хронику "процесса века"; сообщения из зала суда были предметом обсуждений везде — в служебных буфетах, на улице, дома у телевизора. Не избежал этого газетного ажиотажа и я. Каково же было мое удивление, когда в один прекрасный день я получил письмо от этого самого адвоката; украшенное завитушками и виньетками герба его адвокатской конторы, с элегантными синтаксическими длиннотами, письмо извещало меня о том, что я приглашаюсь свидетелем защиты в качестве литературного эксперта. Не согласился бы я на предварительную встречу с обвиняемым и адвокатом обвиняемого для разъяснения крайне важной роли, которую сможет сыграть в ходе процесса мое появление на суде? Заинтригованный, я согласился. Впрочем, отказываться было бесполезно по той причине, что адвокат уже побеспокоился об издании соответствующего указа Ее Величества, согласно которому мне предписывалось предстать перед судом короны в качестве свидетеля, от чего в Англии, как известно, уклониться можно лишь в случае смерти.
Во время моего визита в тюрьму, где Константина держали в камере предварительного заключения, он поразил меня не только манерой речи и идеями — об этом чуть позже. Читая ежедневные газетные отчеты этого скандального процесса, занимавшего центральные полосы дешевой "желтой" прессы, я ожидал увидеть полуграмотного недоумка, классического российского увальня. Но вместо размягченной алкоголем рыхлой картофелины носа, добряцкой дряблости щек и залысин я увидел тонкогубого монстра, держащего каждую морщинку и жесткую складку лица под контролем; он был прямым родственником Рахметовых и базаровых, которые в советскую эпоху переквалифицировались из доморощенных зоологов, препарировавших лягушек, в инженеров человеческих душ. Поражали прежде всего очки в роговой оправе: очки каким-то образом не увязывались с тем Константином, о котором я наслышался из газетных отчетов. Оправа очков еще больше подчеркивала ободок сероватых глаз с желтоватой, кошачьей цепкостью зрачков. В отличие от многих русских он не отводил взгляда: наоборот — следил и выжидал, когда собеседник не выдержит возникшей паузы и начнет бормотать что-нибудь компромиссное и извиняющееся. Сам же он не считал своим долгом разыгрывать фальшивое взаимопонимание. "Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит", — утверждал он всем своим видом.
Может быть, впечатление усугублялось тем, что в момент нашей встречи он находился на положении заключенного в одиночной камере. Это был, в сущности, выложенный белым кафелем карцер. Если бы не убогая тумбочка и кровать, камера была бы похожа на каменный мешок для буйных в психбольнице, или даже на аквариум, из которого выпустили воду. Лицемерно белеющий на двери список прав заключенного, включая право на свидание, переписку и продуктовые посылки, лишь официально регистрировал тот очевидный факт, что Константин был отделен от внешнего мира и, следовательно, мог позволить себе с этим миром не считаться. Не считаться, в частности, со мной — хотя, казалось бы, это он, а не я был заинтересован в нашей встрече.
Такие люди меня пугали: за годы жизни в Англии я привык к некому ритуалу отзывчивости со стороны собеседника, когда, услышав нечто, что кажется тебе неприемлемым, ты все же пытаешься понять чуждую точку зрения кивком головы в знак временного согласия, благожелательным "да, ну так что же" даешь возможность собеседнику сформулировать свою мысль не в атмосфере атаки с последующей блокадой, а свободно, не смущаясь; и только постепенно ты вводишь в разговор неизбежные "но" и "позвольте, но", исподволь стараясь переубедить противника. В глазах же Константина вечной мерзлотой застыла несговорчивость, раз и навсегда укоренившаяся уверенность, что переубеждать друг друга не в чем и каждый должен оставаться при своем мнении. В нем был железный и самодовольный пессимизм человека, уверенного, что он окружен подлецами и идиотами. Мне предоставлялся выбор: причислить себя или к лагерю подлецов, или записаться в идиоты. Меня, естественно, не прельщала ни та, ни другая альтернатива, и встреча с первых же минут показалась мне крайне тягостной.
Читать дальше


![Зиновий Зиник - Русская служба и другие истории [Сборник]](/books/26974/zinovij-zinik-russkaya-sluzhba-i-drugie-istorii-sbo-thumb.webp)