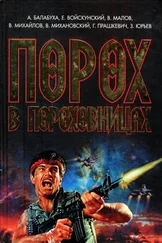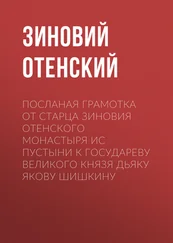В то утро первого Тонечкиного с Костей "сеанса" Клио кружила по заскорузлым от мороза московским улицам, со слипающимися от замерзших слез ресницами и делала вид, что плачет не от ревности и унижения, а переживает за судьбы неудовлетворенных российских женщин, жертв мужского шовинизма советского толка.
Со студенческих лет Клио приучала себя не поддаваться мелкобуржуазному чувству ревности, ложному чувству собственничества. Может быть, просьба Тонечки была ниспослана свыше, как некое духовное испытание, проверка шоком — готова ли она отречься от принципа индивидуализма, неразрывного с западной цивилизацией, и приобщиться к трудной науке общинного быта, где надо делить не только свои мысли друг с другом, не только хлеб и соль. Направляясь в то утро к Мавзолею, она всем сердцем старалась отождествить себя с душой и телом Тонечки, с ее голодным деревенским детством и людоедством, паспортным контролем и московской пропиской, с мужем-инвалидом, который стал старым хрычом не по своей вине, а в результате тягот народных, то есть тюрьмы, как извечного рока этого народа-раба и зэка Божьего.
Но чем жарче становился накал ее благородных чувств, тем, казалось, ниже становилась температура воздуха на Красной площади. И чем ближе она приближалась к мумии вождя революции, шаг за шагом передвигаясь в гигантской очереди по заиндевевшим булыжникам , тем острее ощущалась пустота в желудке, поскольку приближалось обеденное время английского ленча, а кругом высились лишь угрюмые, с пятнами изморози, кремлевские стены, напоминавшие мясо лишь своими багровыми колерами — мясо обветрившееся, залежалое, обмороженное.
Затаив дыхание, она миновала застывшего с примкнутым штыком часового, боясь, что он пропорет ей штыком желудок, чтобы раз и навсегда прекратить неприличные рулады, возмутительные в обстановке встречи с вождем революции. Но морозный румянец под юношеским пушком этого часового напомнили ей золотистый пушок Тонечкиной выи, склоненной над духовкой с ароматным варевом. И перед глазами стали навязчиво мелькать лангеты Тонечкиных бедер и с некоторой долей воображения — августовские вишни ее сосков, недоступные в зимние месяцы — за исключением Центрального рынка — персики ее щек и ананасы ее ягодиц, а ярче всего — клубника со сливками, которые взбивал Костя своим могучим инструментом и, склоняясь над этим роскошным мясным блюдом, поливал его соусом. И Клио хотелось проглотить Тонечкины телеса целиком с потрохами, в неком припадке голода по человеческой теплоте и плоти на этом морозе, превращающем эротику в людоедство.
Как будто поймав ее на этой людоедской мысли, кто-то грубо подтолкнул ее, тяжело дыша в затылок: она поняла, что задерживает шествие мимо гроба вождя. Глаза ее скользнули по восковому личику мумии с как будто наклеенной бородкой. Очередь снова вынесла ее на булыжную площадь. Дразнящая пустота в желудке сменилась тупой сосущей тошнотой как будто в животе оказалась эта мумия. Она зашла в городскую уборную: ее долго и мучительно рвало.
Что заставляло ее согласиться на Тонечкины уговоры — уступала ли она зовам желудка или сочувствию к чужой одинокой женской доле? Она чувствовала себя всей Россией: не способной себя прокормить, зато взамен дарящей любовь. И когда Тонечкины запросы стали повторяться с регулярностью месячных, Клио даже стала наводить справки о возможности принять советское гражданство, чтобы официально, так сказать, зарегистрировать собственный жертвенный статус. Но, видимо, не все униженные и оскорбленные этой коммунальной квартиры разделяли ее пафос жертвенности. В очередной раз, когда в глазах у Тони появилось знакомое томное беспокойство, поскольку Вася опять в дупель пьян, а ревизии не предвидится, муж-инвалид в отлучке вторую неделю, Клио решила на прогулку вообще не выходить, а отсидеться на кухне. Тем более, мороз на улице трещал такой, что даже школьники не посещали школу. Тем более, был повод: на кухне скопилась гора грязной посуды, как раз займет те полчаса "свиданки", как называла Тонечка свои визиты в Костину комнату.
Клио стояла у кухонной раковины с черными ранами сбитой эмали, скосив глаза на заросшее грязью и кухонным жиром окно, и грохотом посуды пыталась заглушить то ли стук вагонных колес за окном, то ли скрипучее грохотанье кровати под наростающее паровозное пыхтенье за стеной. Чтобы не слышать эти охи и всхлипы и скрипы, она даже обвязала голову полотенцем, но постельная возня не заглушалась ничем, и от этих инвокаций, мнимых или действительных, у Клио начинало слабеть в коленках и банное мыло (посудомоечная пена была незнакома этой цивилизации) выскакивало из ее огрубевших красных пальцев с заусеницами и падало на потрескавшийся щербатый пол.
Читать дальше


![Зиновий Зиник - Русская служба и другие истории [Сборник]](/books/26974/zinovij-zinik-russkaya-sluzhba-i-drugie-istorii-sbo-thumb.webp)