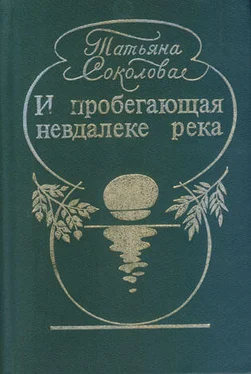— Да ты-то чего возносисси? — бойко говорит самая кругленькая старушка в пуховом полушалочке и новой болоньевой куртке. — Наравне с нами проживаешь. — Она тоже уже могла бы выехать из барака, вместе с семьей дочери, которая занимала соседнюю комнату, но дочери дали площади тютелька в тютельку, и вместе они решили, что старуха останется, барак все равно снесут, на улице ее не бросят, потом и съехаться можно; после того решения прошло шесть лет.
— Я-то? — удивляется мужчина. — Да я хоть сейчас. Хоть к Клавке, хоть к дочери. По родственному праву.
— Хосподи, — ни к кому не обращаясь, вздыхает самая высокая, с худой и прямой, как кол, спиной, старуха. — Больно он Клавке нужон. До могилы комбинату молиться будет, что ей квартиру дали, а ему шиш — не прописали. — Сама она не верит ни во что, ни в поклоны, ни в требования, ни в детей, которые уехали и не помнят, ни в квартирную очередь, которая почти не движется; рухни у барака крыша, она так и будет жить в своей комнате, затыкая вновь образующиеся дыры в стенах и потолке тряпками, забивая щели в полу трухлявыми досками.
— Че-о? — Мужчина вздергивается и тут же обиженно вытягивает потрескавшиеся губы. — Шишиги вы. Думаете, она меня бросила? Образо-ованная. Да я ее сам выпер. Ведь исключительно под каждого ложилась. Веришь, нет? — снова обращается он только к старику. — Исключительно под каждого.
— Ой! Ой, не могу! — Хрипло хохочет усохшая и желтая сморчкообразная старуха, пахнущая дешевым табаком. — Да кому она нужна, твоя Клавка, если она без фингалов дня не ходила? Да ты хоть скажи, ты ей не нужен, козел вонючий. Да мне пенсию добавь, я под тебя не лягу.
— От, зараза, — не сердится, а неожиданно улыбается мужчина, — уела. — Тогда как сидящие рядом с курящей длинная и круглая старухи при всей тесноте отодвигаются от нее. — Уела, растудыт-твою.
— Не выражайтесь, пожалуйста, — подает голос четвертая, в белом платке-паутинке поверх каракулевого пирожка, пряча лицо в каракулевый же шалевый воротник.
— А? — Мужчина наклоняется. — Нет, нет, что вы, Марь Петровна, не буду. Я не забыл, я помню, как вы нас в первом классе учили. Как же это, ага, не рабы мы, не рабы. И кто-то там рамы еще мыл.
— Мама мыла рамы, — четко проговаривает бывшая учительница и высовывает бледное личико с чуть тронутыми помадой губами из воротника. Она живет в бараке потому, что про нее просто забыли, как и про курящую, выработавшую стаж на самых грязных и тяжелых работах, бывшую пьяницу и скандалистку, затихшую как-то постепенно и незаметно лет через пятнадцать после получения пенсии.
— Ты б хоть поделился, Федька, че хоть пьешь, — откашлявшись от смеха, спрашивает она.
— А че пью? Все пью. Тебе завидно, что ли?
— Да хоть завидуй, хоть нет, на мои пятьдесят не разгонишься, на курево не хватает. «Прибой» куда-то пропал, а сигареты все дорогущие.
— Ну, значит, так. — Федор разваливается на плахе, совсем придавив к штакетнику длинную старуху и жмурясь на солнышке. — Берешь томатную пасту, с водой перемешиваешь, и сахару. Исключительно без дрожжей.
— Дак нету сахару. — Курящая достает папиросы.
— Конфет тогда. Печенья тоже можно.
— И после ложкой хлебать? — Старуха, еще не закурив, закашливается.
— Почему? Сначала пьешь, а потом и ложкой. А че? Барыня? Ложкой не можешь? Эй, Витька! Витек! — окликает он появившегося в улице мальчишку, еще одного жильца, который медленно идет к бараку, держа что-то в руках и внимательно рассматривая, то и дело спотыкаясь в месиве неоттаявших комьев глины и раскисшего снега.
— Не курите здесь, пожалуйста. — Бывшая учительница морщится и прячет лицо в воротник.
— А че? Где и покурить, как не на свежем воздухе. — Курящая прикуривает и кривится от ударившего ей в нос густого дыма, ветра нет, дым в сторону не относит. — Здесь общая территория. Федька вон уж четыре высмолил.
— Он мужчина, — объясняет учительница и встает с плахи.
— Наследие алкоголизма, — качая головой и презрительно глядя на мальчика, повторяет старик.
— Витька! — еще раз кричит Федор мальчишке и подается вперед; улучив момент, длинная старуха занимает освободившееся пространство и сидит опять строго перпендикулярно плахе.
Мальчик поднимает голову в глубоко сидящей на ней ушанке, узкое, синевато-желтое на солнечном свете, лицо его оживляется, он выкрикивает что-то и бежит к бараку; заляпанная грязью, когда-то розовая куртка с одной пуговицей у горла распахивается до самой груди, под курткой замызганная рубаха, вылезшая из широких толстых штанов.
Читать дальше