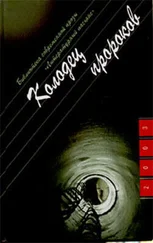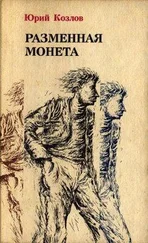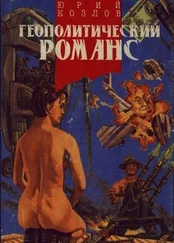Но Каролина, не дослушав, вдруг рассмеялась, прикрыв ладонью рот, где, по всей видимости, в моменты смеха открывались пропуски (прорехи?) в зубах.
— Я сказал что-то смешное?
Предполагаемый стоматологический дефект во внешности буфетчицы странным образом придал ему уверенности. Я еще могу мечтать, с хрустом распрямил спину Объемов, что женюсь на молодой, заведу детей, а вот она…
— Мне позвонили снизу, сказали, чтобы я записала фамилию кто придет ужинать. Извините, как ваша фамилия?
Началось, поморщился Объемов, сейчас выяснится, что никто для меня ничего не заказывал, и вообще, кто я такой… Бабья злоба — она как… кислота разъедает мир, пятнает его… прорехами, куда проваливаются несчастные мужики.
— Объемов, — упавшим голосом произнес он. — Согласен, неожиданная фамилия. В словаре Даля…
— А мне, — прыснула в прижатую к губам ладонь Каролина, — послышалось, извините… Объ…
— Знаю, чт о тебе послышалось, — недовольно оборвал ее Объемов.
В неискоренимом стремлении собеседников переделать его фамилию на непристойный лад он усматривал изначальную испорченность рода человеческого. Объемов вдруг вспомнил, как в библиотеке пытался уточнить фамилию одного забытого писателя. Какую-то он тогда писал статью о советской литературе. На «Ш», сказал он симпатичной интеллигентной библиотекарше, и вроде бы из трех букв… «Шуй?» — немедленно предположила та. Фамилия писателя оказалась — Шим.
— Я еще подумала, как же человек с такой фамилией живет? — продолжила Каролина.
— На девятом этаже, — открыл дверь в холл Объемов, — в девятьсот седьмом номере.
2.
Еще сквозь серебристые двери спускающегося лифта он услышал копытливый (по Есенину) стук каблуков по обнажившейся плитке. (В коридоре на третьем этаже меняли ковровое покрытие.) Победительную уверенность, ножной размах, отчаянную (а пропади все пропадом!) женскую отвагу услышал Объемов в этом стуке. Так могла идти неведомая Олеся по вызову вознамерившегося ахнуть постояльца . Объемов надеялся увидеть хотя бы ее восхитительную спину, но каблучный стук растворился в лязгающем хлопке двери. Мой удел, горестно вздохнул он, домысливать за жизнью и ахать в пустоту. Коридор с голой, как в больнице или общественном туалете, плиткой мерцал в скупом ночном освещении, как будто по нему бежала сиреневая лунная волна. Она угадала, мрачно подумал про буфетчицу Объемов, моя настоящая фамилия — Объ… только это не я кого-то… а меня… Причем давно и навсегда! Ему вспомнился пожилой профессор-интеллектуал из американского фильма «Уик-энд в Париже», в четырех словах подведший итог своей многотрудной и богатой событиями жизни: «Этот мир меня поимел!»
Вопрос, почему это произошло, был не из тех, ответы на которые плавают как осенние листья в пруду. Они скрыты в толще времени и событий, как алмазы в кимберлитовой трубке. Но может, и нет там никаких алмазов, одна пустая порода. Человек, однако, редко готов себе в этом признаться. Роет тупо и рьяно, изводя себя и мешая жить окружающим. Хотя ответ (любой) на этот вопрос никоим образом не меняет ситуацию к лучшему, а всего лишь, как некий божественный GPS, фиксирует точку нахождения неудачника на карте бытия.
О, как горестна, бесприютна и гравитационно-неотрывна эта подлая точка! Мимо проносятся длинные, как если бы дьявол дразнил голытьбу презрительно высунутым языком, лакированные машины. Из-за ресторанных столиков сквозь звон бокалов и серебряный звяк приборов доносится обнадеживающий женский смех. В банковских хранилищах, искрясь, пересыпаются, как… крупа (неужели тоже дьявольская?), бриллианты, сухо шелестят в счетных агрегатах купюры со щекастыми американскими президентами и разными другими историческими личностями в треуголках, тюрбанах, чалмах, цилиндрах, сомбреро, а то и в леопардовых пилотках или шляпах со страусовыми перьями. Тяжело и устало (тысячелетия минули, все обернулось прахом, а они пребывают в вечной цене) светятся золотые слитки… А вот и преуспевший, но бодрый и подтянутый (недостижимый идеал Объемова) серебряно-седой (сам Объемов был сед как-то клочковато и тускло) писатель в кашемировом пуловере с бокалом красного вина в руке и горестной (библейской?) мудростью во взоре возник на этой мимо-картине . Он спускался по каменным ступенькам особняка в отгороженный от шумной улицы высоким забором сад, то есть в свой персональный прижизненный, увитый плющом, засаженный красивыми кустами и деревьями рай. Этот писатель каким-то образом утвердился в прекрасном и яростном (в смысле недопущения посторонних) мимо-мире, обустроился в нем, как живая муха в податливом сладком янтаре. Он поимел этот мир, сумел влезть в дефис между ним и словом «мимо».
Читать дальше