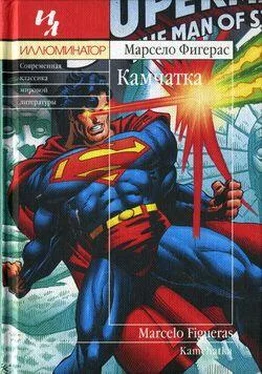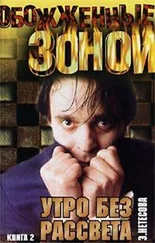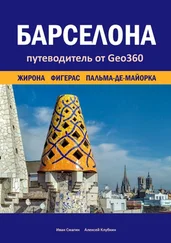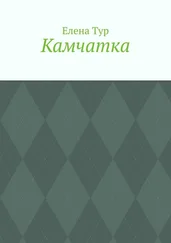Я сказал папе: раз уж я стану другим человеком, то смогу хотя бы позвонить Бертуччо. Я не сомневался: услышав мой голос, он сообразит, что я – это я, даже если я представлюсь Отто фон Бисмарком, и обязательно поймет, что к этому меня вынудили особые обстоятельства, и с ходу мне подыграет. Мы даже сможем изобрести свой тайный язык!
Но мама немедленно переключилась в режим «Женщина-Скала» и растоптала все мои надежды. Объявила, что запрет остается в силе и что Бертуччо звонить нельзя, даже если я назовусь Лексом Лютором. Нельзя, и никаких гвоздей. (Когда мама так говорила, Гном напряженно задумывался, а потом начинал уточнять: «А винтиков? А шурупов?»)
Настоять на своем мне не удалось. Обидно было страшно. Я отодвинул тарелку с недоеденным яблоком и скрестил руки на груди. Вскочить бы, уйти бы из этого дома насовсем… Но идти мне было некуда.
– С сегодняшнего дня мы – семья Висенте, – объявил папа бодрым голосом, словно ничего не произошло.
Я и бровью не повел. Мне-то какая разница. Зачем мне это знать!
– Я – Давид Висенте, архитектор, – сказал папа.
«Висенте» и как имя-то звучит паршиво, а уж в качестве фамилии…
– Давид Висенте! – не унимался папа. Схватил меня за плечи, встряхнул.
И тут до меня дошло. Архитектор Давид Висенте. Мой папа – Давид Винсент!
Я захохотал. Гном посмотрел на меня как на чокнутого, а мама вопросительно скосила глаза на папу.
– Врубаешься? – сказал я Гному сквозь смех. – Давид Висенте – все равно что Давид Винсент, только по-испански! Папа – герой «Захватчиков»!
– Ух ты! – выдохнул Гном и зааплодировал.
Мама опешила – не знала, то ли придушить папу за эту идею, то ли расцеловать.
– Для всех, кто будет спрашивать, мы – семья Висенте, – самодовольно провозгласил папа. – Если позвонят по телефону и попросят позвать тех, кем мы были раньше, вы должны ответить: «Здесь таких нет, мы…»
– По телефону они ничего отвечать не должны! Им вообще запрещено брать трубку. Сколько раз объяснять? – вмешалась мама, расставив все по местам.
– Извини. Если к телефону подойду я, то скажу: «Вы ошиблись номером». Ясно?
Мы с Гномом кивнули.
Я спросил папу, будут ли у нас, как полагается в таких случаях, фальшивые документы.
Я ожидал, что он меня отругает, но, как ни удивительно, папа оглянулся на маму, как бы спрашивая у нее согласия, а затем ответил, что все возможно – если понадобится, мы и документы сменим, и вообще…
Тогда я спросил:
– Можно, я сам себе имя выберу?
И Гном повторил за мной:
– Можно, я сам себе имя выберу?
– Смотря какое, – ответила мама. – Имя должно быть более-менее обычное. Не Фофо, не Чип, не Мак-Дак, не Гуфи…
– Симон! – вскричал Гном. Как я уже говорил, ему нравился сериал «Святой». – Как Симон Темплар!
Мама с папой удовлетворенно кивнули. «Симон Висенте» звучало очень даже неплохо.
– Я могу назваться Флавией, – сказала мама.
– Флавия Висенте. Заметано. Но только скажи мне, откуда ты взяла это имя, – потребовал папа.
– Хоть режь, не скажу.
– Тогда я тебя назову Дорой. Или Матильдой, в честь твоей мамочки.
– Только попробуй – мигом лишу допуска, – сказала мама.
– «Флавия Висенте», – поспешил капитулировать папа, – продано этой сеньоре, раз, два…
– Что такое «допуск»? – спросил Гном.
– Тут еще один сидит без имени, – сказала мама. Совершила отвлекающий маневр.
Но я уже знал, как меня зовут. Меня осенило. Сама судьба подсказала мне имя с помощью многочисленных знамений, а я, как вы уже понимаете, гордился своим даром их разгадывать.
Отныне меня звали Гарри.
Да-да, Гарри. Рад с вами познакомиться.
Как рассказывает Геродот, при царе Атисе, сыне Манеса в Лидии случился ужасный голод. Поначалу лидийцы терпеливо сносили лишения, а затем осознали: чтобы поменьше думать о происходящих ужасах, требуется какое-то развлечение. Тогда-то они и изобрели игры – в кости, в бабки, в мяч. Вслед за Геродотом лидийцам приписывают изобретение всех игр, кроме бэкгэммона – так английские пираты переименовали нарды, игру арабского происхождения, в которую до сих пор играют старики повсюду на Ближнем Востоке, сидя за низкими столиками на открытом воздухе и попивая приторный чай с мятой.
Мне всегда нравилась эта история. Геродот подчеркивает, что это не достоверный факт, а легенда, которую лидийцы рассказывают о своем народе, но все равно излагает ее красноречивым языком и серьезным тоном. Это один из самых блестящих пассажей в его «Истории». Геродот знал: то, что рассказывает какой-нибудь народ о собственной истории и национальном характере, имеет огромное значение, ведь в этих историях выражается представление народа о самом себе, выражается ярче, чем в документах или трагических (а они всегда трагические, даже для победившей стороны) итогах сражений.
Читать дальше