Эйнштейн возвращается к столу, присаживается па минуту и снова идет к окну. Он чувствует опустошенность. Ему неинтересно писать отзывы на патентные заявки, неинтересно говорить с Бессо, неинтересно думать о физике. Он чувствует опустошенность и без всякого интереса смотрит на крохотную точку и Альпы.
Книга Алана Лайтмана вызвала бурный энтузиазм не только у таких изощренных читателей, как, скажем, Сальман Рушди, но и у весьма широкой аудитории, о чем говорит почетное место в списке бестселлеров. Другое дело, что, обнаружив там "Сны Эйнштейна", я вспомнил Леньку Пантелеева из "Республики ШКИД": Ленька, хоть и считавшийся в ШКИДе первым поэтом, основал журнал "Вестник техники", где объяснялось, как выкручивать лампочки в подъезде. Примерно так же выглядят "Сны Эйнштейна" в окружении обычного коктейля бестселлеров, составленного из детективов, триллеров и любовных романов. Чем бы ни была книга Лайтмана, «романом» она именуется лишь потому, что неизвестно, к какому жанру относить подобные сочинения.
В предисловии к одной из книг столь популярного сейчас в России Карлоса Кастанеды антрополог Уолтер Гольдшмидт пишет: "Разные народы живут в разных мирах, отличающихся друг от друга своими "метафизическими параметрами", то есть категориями пространства, времени, каузальности и так далее. Знакомство с чужими мирами — а этим и занимается антропология — приводит к тому, что мы начинаем и собственный мир ощущать "культурной конструкцией".
Встреча с чужой картиной вселенной заставляет нас усомниться в истинности нашей. Выбитый из метафизической колеи человек теряет почву под ногами и повисает в воздухе. Но взамен он обретает зоркость, позволяющую разглядеть тайну, скрытую под покровом очевидного. Встреча с неизвестным остраняет восприятие мира: реальность превращается в игру, правила которой определяет не столько Природа, сколько Культура.
"Сны Эйнштейна" — руководство к такой игре. Меняя один из "метафизических параметров" — время, автор кроит вселенные на любой вкус. Демонстрируя возможность миров с иными временными координатами, Лайтман заставляет нас ощутить загадочную власть и того времени, в котором мы живем.
Об этом писал Августин в одиннадцатой главе своей «Исповеди»: "Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время: если бы я захотел объяснить спрашивающему — нет, не знаю". С этого «незнания» начинается история времени, история гипотез времени, каждая из которых формирует свою версию реальности.
Так, в фундаменте нашей действительности — линеарное гомогенное «научное» время. Всюду и всегда одинаковое, оно тянется по прямой из прошлого в бесконечное будущее.
Такое время мы ощущаем единственно возможным, правильным, нормальным, естественным, но на самом деле оно искусственного, причем сравнительно недавнего происхождения Истоки его — в христианстве, которое впервые создало концепцию уникального события — распятия Христа. С этого критического момента у истории появился вектор, и каждое событие в ней приобрело статус неповторимости. Голгофа разомкнула кольцо более древнего циклического времени.
Борьба между христианским и языческим временем продолжалась все средние века. Циклическое время было ближе и крестьянам, и земельной аристократии, и даже первым ученым, картину мира которых определяли преимущественно астрономические и астрологические образы.
Линеарное время окончательно победило только тогда, когда главную роль стало играть третье сословие — купцы, коммерсанты. Развитие денежного обращения, а значит, и «легализации» банковского процента выразилось в формуле "время — деньги": чем больше времени, тем больше денег.
Линеарное время и порожденная им идея прогресса постепенно разрушили архаический обиход, опирающийся на циклическое время. Знаком этой победы стало массовое распространение механических часов. Они, по словам американского историка и критика Льюиса Мамфорда, "отлучили время от человека и помогли создать специальный мир науки". В этом "мире математически исчисляемых последовательностей" и воцарилось хорошо нам знакомое идеальное, синхронное для всей вселенной время. Без него, без одинакового для всех времени не было бы промышленной революции. Развитие производства, фабрика, конвейер требовали синхронизации всей жизни. Машина приучала всех к своему расписанию: люди привыкли жить "по гудку". Поэтому малозначительная в древности черта — пунктуальность — превратилась в одну из главных гражданских добродетелей индустриальной цивилизации. Неудивительно, что золотые, семейные, переходящие по наследству часы считались знаком достатка, солидности и надежности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



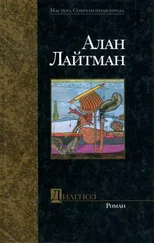

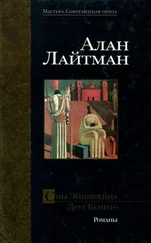

![Алан Лайтман - Сны Эйнштейна [litres]](/books/415499/alan-lajtman-sny-ejnshtejna-litres-thumb.webp)
