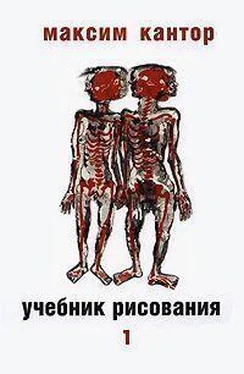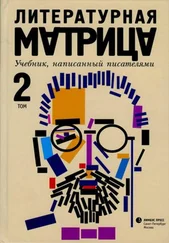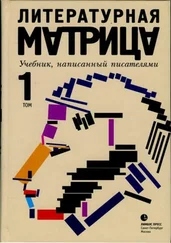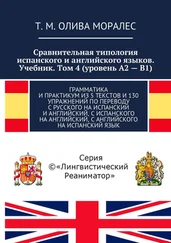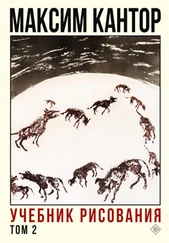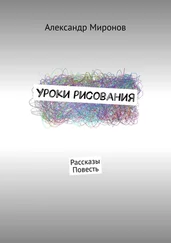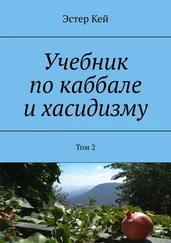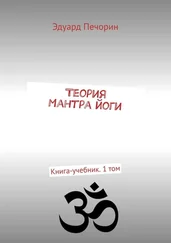Еще хуже стало, когда началась война в Чечне. Сергей Ильич был противник насилия и уж, несомненно, противник российских методов управления. Однако что-то мешало профессору осудить войну в Чечне, и ему как историку неприятно было ощущать в себе эту зависимость в суждениях от каких-то сторонних соображений. Обыкновенно он начинал спорить с Соломоном Рихтером, который говорил: Позор! Идет геноцид чеченского народа! Возвращаемся к сталинским временам, так получается, да?
А Татарников отвечал сперва по существу вопроса, а потом обязательно срывался:
- Какие парламентские дебаты? Вы поглядите на эти звериные морды! Для бандита есть только один довод - пуля в лоб! - и при этом ему мерещился лоб Тофика.
- Как вы можете, - ужасался Рихтер, - я уверен, вы так не думаете.
- Именно так и думаю, Соломон! Из крупнокалиберного пулемета!
- Стыд вам, Сергей Ильич! - говорила в этих случаях Зоя Тарасовна. - Историк! Гуманист!
Тофик Левкоев, присутствовавший однажды при споре, высказал неожиданно радикальное суждение.
- Правильно, - поддержал он Татарникова, - мочить надо черножопых. Верно, из пулемета. Отстрелять половину чурок, чтобы другие очухались. Работать не дают, всю Москву бандитскими рожами замутили.
Соломон Моисеевич при этих словах ахнул, открыл рот и уставился на собеседника - крепкого кавказского мужчину в оранжевом галстуке с лиловыми подковками. А отец Николай заметил: «Господь с вами, помилуйте, зачем вы так про народ Кавказа? Кухня кавказская просто отменная. Бывали в ресторане "Тифлис" на Остоженке?» - «Приличное место, - сказал Тофик, - кахетинское у них хорошее». - «Подождите, подождите. А сациви? А лобио как готовят?» И беседа завязалась. Вспоминая об этой и ей подобных беседах, Татарников всякий раз испытывал приступ стыда - за то, что все это происходит в его кабинете, возле полок с библиотекой отца, под фотографиями деда и прадеда - профессоров Московского университета. Не здесь, не в этом доме, не среди книг, собранных подлинными учеными, видеть эти нахальные лица. Ему было неловко перед стариком Рихтером, который и не подозревал о родственных отношениях Татарниковых с Левкоевым. - Что же это за странный мужчина, Сережа? - Понимаете, Соломон, это приятель детства. - Вот видите, Сережа, восточный человек, но сумел подняться над голосом крови. Это нам всем урок. Высказывание его весьма любопытно, вы не считаете? Сергей Ильич не сумел бы ответить на вопрос, отчего он не стыдится бутылки водки, выпитой в полдень, но стыдится Тофика Левкоева, сидящего в его кабинете, и отца Николая, обсуждающего достоинства лобио. Он говорил себе, что винить некого, он сам виноват, он сам собрал всех этих случайных людей в своем кабинете, значит, так ему самому захотелось, так, вероятно, удобнее. Они не хуже прочих, убеждал он себя. В такие минуты он чувствовал себя бесконечно вялым и слабым. Не было сил углубляться в историю отношений с Зоей Тарасовной, пересматривать все свое окружение, весь уклад жизни. Хуже всего было то, что выхода из этих отношений, по всей видимости, не существовало.
Татарников слушал жену, и в нем привычно просыпалась ярость и, как обычно, не находила выхода; он знал, что дай он ей выход, жизнь испортится вконец: Зоя Тарасовна взметнет волосами, хлопнет дверьми и уйдет к подруге, Сонечка примется плакать и биться на постели, он сам поедет на холодную дачу и станет пить водку на веранде.
Он сдержался, только прикрыл глаза. Что тут скажешь?
Сонечка продиктовала адрес, по которому учреждалось новое для России «Открытое общество», то был известный Дом ученых. Татарников надел старый отцовский пиджак, который всегда надевал, если предстоял серьезный доклад или важная встреча. Хмель давно выветрился, было бы неплохо выпить еще рюмку для настроения. К нужному часу он уже входил в распахнутые двери «Открытого общества».
Его почти не удивило, что вокруг были знакомые лица: в последние месяцы он привык встречать одних и тех же людей решительно повсюду. Увядшая было в первые годы перестроечной нищеты столичная жизнь расцвела вновь, двери салонов распахнулись шире прежнего. Ленивая светская жизнь Москвы, что славится застольями, перетекающими одно в другое, вернулась в привычное состояние. Период растерянности и митингов, когда некогда было и в гости сходить, миновал. Столица и ее знаменитости некоторое время приглядывались к новым лицам, привыкали к новым обстоятельствам, приспосабливались к новым ценам. Но - обвыкли, и отработанный столетиями механизм заработал вновь, так же исправно, как работал он и полвека и триста лет тому назад. По вторникам люди искушенные встречались у Вити Чирикова - редактор «Европейского вестника», продолжатель дела покойного Карамзина славился настойками и огурчиками специального засола; по четвергам отправлялись на маскарады и шарады к Яше Шайзенштейну; субботу же проводили у отца Николая, разговляясь на бараньих отбивных. И поскольку избранных лиц в столице не так уж и много, в каждой гостиной непременно встречались одни и те же лица. Одним словом, если разминешься с кем-нибудь у отца Николая Павлинова, то непременно встретишь его у Яши Шайзенштейна. А что вы хотите? Столица, она и есть столица, и жизнь у нее столичная. Коммунизм ли, капитализм ли на дворе, а московская жизнь идет своим чередом - солят грибочки, настаивают водочку на лимонной корке, рисуют жженой пробкой усы в сочельник. Единственным отличием от привычного уклада стало то, что к списку адресов прибавились новые: открылись двери иностранных салонов и домов партаппаратчиков, прежде для интеллигентной публики недоступные. По пятницам Ричард Рейли устраивал долгие коктейли с домашними концертами и сам, кстати, недурно играл на флейте; каждую вторую среду немецкий атташе Фергнюген давал скучный немецкий обед с рейнским вином; а по воскресеньям избранные наезжали в Переделкино на пироги к Алине Багратион, да заодно и хаживали на могилу к Пастернаку, благо в двух шагах.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу