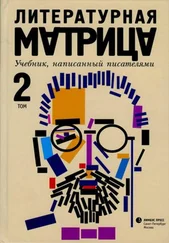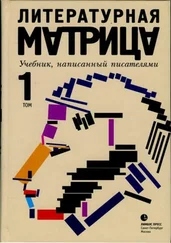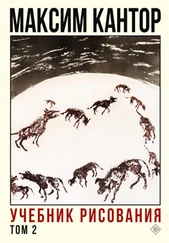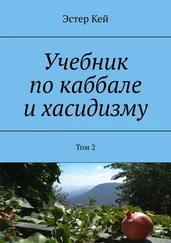Вместо внятного ответа на прямой вопрос хорошо - или плохо, находились десятки путаных ответов. Эти промежуточные ответы имели в виду единственное: всегда найдется худшее зло, которое будет являться индульгенцией первоначальному злу. Да, развал страны - неприятен, но это лучше, чем эволюция вялой тирании коммунистов к всемирному фашистскому государству. А то, что такая возможность была, представлялось несомненным. Эволюция коммунистических идеалов в национал-социалистические (этот социальный эффект определяли через цвет - красно-коричневый) обсуждалась интеллигенцией страстно. Попутно вскрылись отношения Сталина с Гитлером, и для сознания просвещенного субъекта конца века трансформация коммунистической империи с интернациональной идеологией в национальную империю с идеологией мировой гегемонии - стала вполне вероятной и объяснимой.
Именно этого всегда опасался старый Соломон Рихтер. Пострадав некогда во время борьбы с космополитами, он сделался чувствителен к возможному рецидиву национализма. Известное дело: пуганая ворона куста боится. Скажем, читал он в газетах о погроме в провинциальной синагоге: ну, бывает, перепились молодые люди и что-то сломали, даже, допустим, шею раввину, - и тут же Рихтер делал далекоидущие выводы. Или рассказывали ему об ущемлении прав граждан кавказской национальности, - и он тут же пугался и кричал, что наступает фашизм. Сергей Ильич Татарников, человек хладнокровный, в таких случаях спрашивал своего друга:
- Так фашизм или все-таки национал-социализм, вы уточните свою мысль, пожалуйста. Ну, какой такой национал-социализм, Соломон? Вы что имеете в виду, сами-то понимаете? Фашизм итальянский? Нацизм немецкий? Франкизм испанский? Англо-американскую капиталистическую гегемонию? Или русское голоштанное раздолбайство? С чего бы в России было появиться национал-социализму? С какого такого боку? Нам что, коммунизма мало? Хотите сказать, что те лагеря были вроде как начерно, а надо еще и новые строить? Не справимся, боюсь. Газ у нас нынче - последняя надежда. Нам газовые камеры строить никак нельзя, себе дороже. Ах, Соломон, боюсь, что смерть от газа нам не грозит. И в нефтяных скважинах топить нас тоже не будут.
Если отбросить цинизм Сергея Ильича, то суть его высказывания сводилась к следующему: зачем приписывать некую болезнь (национал-социализм в данном случае) организму, который болен, но болезнью совсем другой? Зачем лечить недужного от чужой хвори - не дай бог, и впрямь больной ее подхватит. Так бывает: стали дурня лечить от холеры, положили в холерный барак, да и заразили. И то сказать, искать определенную бациллу - работа непростая. Проще лечить от болезни вообще: дескать, человек нездоров, а что с ним такое, время покажет. Фактически упрек Татарникова в этом и заключался: мол, обозначьте недуг точнее.
Пожелание Сергея Ильича удовлетворить было трудно. Так повелось в интеллигентных кругах, что слова употребляют навскидку. Если представлен обществу человек приятный, мы говорим про него, что он демократ, а если персонаж, напротив, жестокий и властный, мы говорим, что он фашист, - и не заботимся при этом, кто из двоих разделяет взгляды Бенито Муссолини. Легко может оказаться, что разделяет их приятный человек, а грубиян - нет.
Происходит так оттого, что люди устали от терминологической путаницы. Скажем, простая вещь - убийство. Как правило, массовое убийство есть следствие мировоззрения убийцы. И появились понятия: колонизация, революция, контрреволюция, коллективизация, перестройка. Концепции разные, однако кончалось одинаково - резней. Претензии Татарникова к недостаточной деверсификации исторического процесса сталкивались с таким властным фактором, как человеческий страх. Как ни обзови явление, говорил этот страх, а будут бить. Опасения глобальных перемен, страх перед загадочными словами, через которые перемены определяют, - сформировали одно слово, которое стало обозначать беду. Все злодейства стали именовать революциями; а всех злодеев назвали фашистами.
Забавно то, что понятия эти меж собой не слишком согласовывались (в самом деле, ну не фашисты же устроили Октябрьскую революцию); однако в сознании людей, употребляющих термины, все устроилось. Люди научились управляться с этими определениями. Никто не ругал погромщика «революционером» - нет, само собой выходило так, что его называли «фашист». И одновременно с этим никто не опасался фашизации общества - опасались революционных процессов. Могут ли фашисты вести общество к революции, способна ли революция порождать фашистов - так далеко народ, автор языка, не заходил. Все эти понятия лежали в истории где-то рядом, в одном месте, в нем бы покопаться, но заглядывать в это скверное место не хотелось.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу