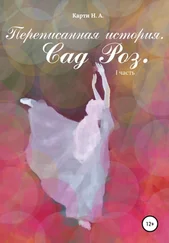Из-за всеобщей суматохи санитарка лишь через полчаса удосужилась отпереть ванную комнату, чтобы Дебора смогла хоть немного ополоснуться. Здесь, как и везде, нападавшие имели преимущество перед жертвами. В конце-то концов, клиника недалеко ушла от реального мира. Дебора мысленно проклинала эту заваруху. Пусть с Элен обошлись грубо, но проявили к ней внимание, проявили обеспокоенность. Отчистив себя от съестного, Дебора вернулась в постель; на тумбочке ждал давно остывший обед, наполовину подъеденный соседкой.
— Подкрепись, милая, — проворковала со своей койки Супруга Отрекшегося, — все равно из тебя потом это выдавят.
— Да нет… — Дебора покосилась на рагу. — Я свою порцию уже получила.
Тут она удостоилась пристального взгляда Вдовы Убитого.
— Дорогуша, при такой внешности на тебя не польстится ни один мужчина!
Отвернувшись, она продолжила совещание, и Дебору вдруг осенило, почему Элен вздумала на нее напасть. Примерно за час до этого, когда врач вызвал для беседы Дебору, к ней подошла Элен и с членораздельными комментариями показала несколько фотографий, полученных в письме. Элен, которую все боялись по причине ее вспышек злобы и буйства, содержали в изоляторе; эта больная не раз ломала другим кости. Но сегодня дверь оставили открытой, и никто не заметил, как Элен отправилась на поиски Деборы и поделилась с ней этими фотографиями. Она в подробностях рассказывала, кто на них изображен, и в какой-то момент сказала: «Вот с этой мы учились в колледже». Прелестная девушка, она стояла в реальном мире — на кошмарной, ничьей земле. Забрав у Деборы фото, Элен повалилась на ее койку и приказала: «Мотай отсюда… Я отдыхать буду». Поскольку это была Элен, а не кто-нибудь, Дебора вышла из палаты в коридор; вскоре Элен обнаружил и выдворил санитар. Дебора поняла: Элен обрушилась на нее как на свидетельницу своего позора и унижения, вызванного той фотографией. Зеркало требовалось замарать, чтобы оно больше не отражало тайную уязвимость, внезапно мелькнувшую за ширмой неумолимых кулаков, взглядов и ругательств.
— Философствуешь! — пробормотала себе Дебора и вытащила из уха кусочек чего-то тушеного.
— С переменами мы разобрались, с тайным миром тоже, — проговорила доктор Фрид, — а как протекала твоя жизнь в промежутках?
— Даже не знаю, как подступиться; мне кажется, в ней была только ненависть: и в лагере, и в школе, и везде…
— В школе тоже царил антисемитизм?
— Нет-нет, там все было проще. Мишенью становилась только я; стойкую неприязнь не могли переломить никакие нотации насчет хороших манер. Но почему обыкновенная неприязнь перерастала в ярую злобу или ненависть, я так и не поняла. Разные люди подходили ко мне и говорили: «…после всего, что ты сделала…» или «после всего, что ты наговорила… даже я не собираюсь тебя защищать». А я не могла взять в толк, что я такого сделала и наговорила. Горничные у нас в доме не задерживались, это была какая-то круговерть, и мне все время приходилось извиняться, но я не понимала: за что? Почему? Однажды я поздоровалась с лучшей подругой, а она от меня отвернулась. Когда я спросила, в чем дело, она сказала: «После всего, что ты наделала?» — и больше со мной не разговаривала, а я до сих пор не понимаю, в чем моя вина.
— Ты уверена, что ничего не утаиваешь… какую-нибудь потребность поступить так, а не иначе, из-за которой подруги на тебя злились?
— Сколько раз я пыталась представить, додуматься, вспомнить. Но все напрасно. Ни намека.
— А что ты чувствовала, когда такое случалось?
— По прошествии времени оставались только серый туман и удивление от неизбежности.
— Удивление от неизбежности?
— Где нет законов, там есть только это жуткое разрушение, которое подбирается все ближе… Иморх … тень его неизбежна. И все-таки… сама не знаю почему… я мучаюсь от его приближения и от ударов, которые сыплются на меня вновь и вновь с самых непредвиденных сторон.
— Вероятно, причина лишь в том, что ты сама ждешь от этого мира только потрясений и страхов.
— По-вашему, я сама подстраиваю обманы? — Дебора почувствовала, что они ступили на опасную территорию.
— Но порой ты вынужденно шла на обман, разве нет? Или отказывалась что-либо понимать.
У Деборы в памяти всплыла картинка из тех лет, когда ей хотелось только умереть. Ее забрали из антисемитского лагеря, но цвет жизни уже померк, и углубляться могло только отчаяние. О ней говорили: вечно уединяется и что-то рисует, но никому не показывает. Действительно, она всюду носила с собой альбом для набросков, загораживалась им, как щитом, и однажды не заметила, как из него в присутствии кучки бездельников, мальчишек и девчонок, случайно выпал один лист. Его поднял кто-то парней. «Алло… Чья потеря, моя находка?»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу