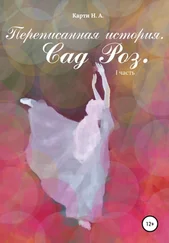В страхе, близком к паническому, Эстер написала доктору Фрид. Нельзя ли все же приехать — не для того, чтобы повидать дочку, коль скоро в больнице это считают нецелесообразным, а чтобы проконсультироваться с врачами насчет этих перемен. В ответе, который тоже настраивал на терпеливое ожидание, сквозила попытка честного человека обнадежить родных пациентки. Конечно, если родители сочтут свой приезд необходимым, свидание с дочерью им разрешат, но этот кажущийся срыв сам по себе не дает оснований для тревоги.
Эстер бросило в дрожь, когда она вспомнила, какие вопли доносились из того высокого здания с двойными решетками. Раз за разом перечитывая письмо, она обнаружила в нем, как в тайном донесении, мельчайшие крупицы скрытого смысла. Ни она сама, ни Джейкоб не должны допускать, чтобы их страхи препятствовали лечению дочери. Пусть наберутся терпения и ждут. Без лишней суеты она положила письмо к остальным. И больше к нему не возвращалась.
— Надо разобраться, нет ли здесь определенной модели поведения… — сказала доктор Фрид. — Стоит тебе раскрыть нам очередной секрет, как ты начинаешь метаться в поисках убежища и бросаешься в свой тайный мир. В какой-то Ир.
— Вы крадете мои рифмы, — указала ей Дебора, и обе они посмеялись.
— Что ж, расскажи мне, каков ритм этих твоих неприятностей.
Она пристально наблюдала за пациенткой, стремясь понять, что это за мир, который прежде служил девочке укрытием, но вдруг сделался серым, а теперь и вовсе превратился в тиранию, где она днями напролет вынуждена угождать местным властителям.
— Как-то раз… — начала Дебора. — Как-то раз иду я домой из школы, ко мне подходит Лактамеон и объявляет: «Три Перемены с их Зеркалами, а потом — Смерть». Говорил он по-ирски, а в этом языке словом «смерть» обозначается и кое-что другое: сон, безумие и даже само Жерло. Не знаю, что именно было у него на уме. Первая перемена мне понятна: это поездка домой из больницы, якобы после удаления опухоли. Зеркалом этой перемены стал сломанный цветок, который я увидела через много лет. Вторая перемена — это мои унижения в лагере, а зеркало — случай в машине, когда мне было лет четырнадцать. Третья — переезд в город, а зеркало, согласно предсказанию, — то, что привело к осуществлению пророчества. То ли вскрытие вен, то ли возвращение домой — не знаю, но это и была та смерть, которую предсказал Лактамеон.
— Две перемены обнаружились еще до того, как их предсказал бог, или кто он там, правильно я понимаю?
— Но третья — после, и все зеркала — тоже. — И Дебора завела рассказ про сплетение пророчества и судьбы, которое и составляло ткань ее потаенного мира.
После удаления опухоли родные ликовали. Возвращаясь из больницы домой сквозь легкий дождик, они веселились. Дебора, привстав с заднего сиденья, разглядывала серое небо, мокрые улицы и прохожих, которые поплотнее запахивали плащи. Реальность была не здесь, в салоне автомобиля, а ближе к мутному небу, мрачному и усталому, смыкавшемуся с дождем. Ей подумалось, что этот мрак отныне будет цветом ее жизни. Спустя годы, после того как мир вступил в борьбу с ее душой за другие реальности, Лактамеон напомнил ей об этом дне прозрения.
Перед госпитализацией Дебора видела сон: белая комната — так ей представлялась больничная палата — с распахнутым окном, за которым синело яркое небо со стремительно меняющимися белыми облаками. На подоконнике стоял цветочный горшок с красной геранью. «Вот видишь, — сказал ей голос из сна, — в больнице тоже есть цветы и сила. Ты выживешь и окрепнешь». Но в том же сне воздух неожиданно потемнел, небо за окном стало черным, а невесть откуда прилетевший камень разбил глиняный горшок и сломал кустик герани. Раздался вопль, нахлынуло предвестие чего-то страшного. Много лет спустя горькоголосая начинающая художница — совершенно другая Дебора — шла по улице и упала, споткнувшись о разбитый цветочный горшок. Земля из него высыпалась, а поникшее красное соцветие запуталось в корнях и побегах. Лактамеон был тут как тут; он зашептал: «Видишь… видишь… Перемена произошла давно — а вот и зеркало той перемены. Этап завершен». Теперь назревали еще две перемены и два зеркала этих перемен, а потом — Иморх (это слово обозначало нечто близкое к смерти, сну или безумию; слово — как вздох безнадежности).
Вторая перемена случилась с нею в возрасте девяти лет и пришла вместе с ее унижением. Был первый день ее третьего сезона в летнем лагере; в пылу борьбы с несправедливостью, которая виделась ей в том, что она уродилась такой, как есть, Дебора пожаловалась на двух девчонок, которые осыпали ее издевками и запрещали к себе приближаться. Начальник лагеря посмотрел на нее в упор:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу