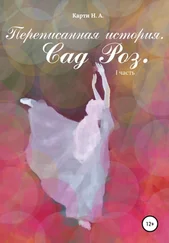Ее вопрос пробил земное молчание, и она почувствовала рядом с собой людское присутствие — не иначе как из своего кабинета прибежал доктор Остер. Но слух, подобно зрению, искажал действительность, и, наткнувшись на невидимую преграду, она закричала:
— Все чувства слились в одно!
— На буйное ? — (Или нечто в этом роде, тоскливо-досадливое, прозвучало из тумана.)
Дебора попыталась ответить, что для вулкана буйное состояние — это закон природы, но утратила способность к общению. Направляемая с боков и сзади расплывчатыми пятнами, она вошла в чрево стального лифта для пациентов, который доставил ее на «четверку» — на исходные позиции.
Когда сознание прояснилось — заново, все заново, — ее, завернутую в простыни так, что не шевельнуться, начал разбирать смех.
«Эй вы, внезапные, падающие календари, теперь до меня дошло. Теперь до меня дошло, эй, ты, Лактамеон, печальный бог. Теперь до меня дошло, почему Карла и Дорис Ривера чертовски выдохлись!» Ей казалось, гортань вот-вот лопнет, захлебнувшись жестким, булькающим смехом.
Через некоторое время пришел Квентин Добжански, чтобы измерить ей пульс.
— Привет… — выговорил он, еще не выбрав между игривостью и мрачностью, — обертывание помогло?
— По крайней мере, зрение восстановилось, — ответила Дебора, глядя на него. — Вы по-прежнему мне друг?
— А как же, конечно! — помявшись, заверил он.
— Тогда не хлопочите лицом, Квентин. Оставьте как есть.
Он расслабил мышцы лица, на котором тут же отразилось разочарование.
— Да я просто… ну, привык думать, что вы уже на свободе, осваиваетесь, вот и все.
Его не покидала тревога оттого, что эта девушка, к которой он был искренне расположен, остается в числе психованных (нет, врачи требовали называть таких душевнобольными) и он может ей навредить, если скажет лишнее. И доктора, и проработанные им учебники рекомендовали отвечать уклончиво, избегать споров, не проявлять сильных эмоций, но держаться бодро и участливо. Однако вопреки этим наставлениям он знал, что способен задеть в ней какие-то струны, и от этого старался, а от старания — один шаг до некоего чувства, и это чувство заставляло его искать в ней человеческое начало. Невзрачная, растрепанная — все так, но ведь над ним тоже смеялись из-за его внешности; случалось ему и оказываться поверженным — как она сейчас. В свое время он попал в аварию и, весь переломанный, лежал рядом с отцом на асфальте. Врачи «скорой» завернули его в одеяло (подобно тому, как эту девушку сейчас завернули в простыни) и доставили в больницу — та поездка прочно врезалась ему в память. Боль пришла не сразу: ей предшествовало нечто похуже — жуткое ощущение раздавленности тела и души. Под шум колес это чувство нашептывало ему снова и снова: «измельчить и растолочь, измельчить и растолочь». Болью, которая нахлынула позже, он, как ни странно, даже гордился. Смерть отца оставила по себе неизбывную, чистую скорбь; переломанные ребра превращали каждый вдох и выдох в пощечину смерти, в признак жизни. Глядя сейчас на Дебору, он слышал все тот же шум колес: «измельчить и растолочь, измельчить и растолочь». Наверняка она испытывала то же самое.
— Пить хочешь?
— Нет, спасибо.
Мучительно смущаясь наедине, ожидая, когда же утихнут его разочарование и ее страх, они смотрели друг на друга, и Дебору внезапно поразило, что ее добрый знакомый Квентин Добжански — мужчина… сексуальный… пылкий, и выглядит он сейчас так, будто не может сдержать крик страсти, летящий в гулкую бездну ее пустоты. Пустоту она прочувствовала только сейчас. И с этим ощущением пустоты пришел голод. Долгий, жестокий голод, запоздавший на годы и доселе не измеренный. Но мера голода — это мера емкости. Фуриайя права: Дебора, хоть больная, хоть в здравом состоянии, сохранила способность чувствовать.
Квентин остановился на пороге, стараясь дать ей хоть какую-то надежду, которой у него было меньше, чем хотелось выказать.
— Всего час остался, — сказал он.
— Ничего, все нормально. — Сознавая свою непривлекательность, Дебора не хотела оскорблять его взор и воображение, а потому отвернулась и тем самым позволила ему затворить дверь.
А потом насмешки посыпались не от Антеррабея, а от Лактамеона, черного бога с сине-ледяными глазами: «Рыбак добился своего, рыбка трепыхается в неводе, но не умирает и не остается мертвой. Она хлопает плавниками, обивает борта лодчонки, кувыркается, ищет свою стихию, страдает от того, что лишилась жизненных соков. А рыбак удручен. Не хочется ему думать о предсмертных мучениях рыбешки — его добычи, его победы. Точно так же выглядишь и ты в глазах мира, да и в наших глазах. Умри заново, и пусть все останется как было» .
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу