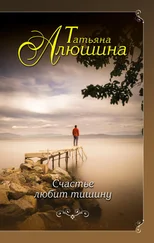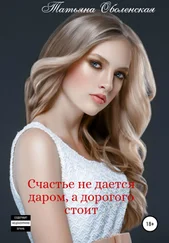Татьяна Кадникова
Счастье бумажной куклы
Мне приснилась мама.
Что она не умерла.
Что она варит щи, красные, как я любила в детстве.
И компот, который я любила в детстве.
По кухне плыл жар, и вся моя жизнь, нескладная, неуютная, обогрелась вдруг и наполнилась щемящим теплом. Мне было жалко, что она торопится уходить, и я сказала:
– Сама-то не поешь?
– Нет.
Ее уже ждали. Я видела белое облако и мужскую фигурку на берегу.
– Как там Люда? – спросила она, надевая фланелевый халат прямо на платье, в котором ее похоронили. Халат красный, старый, я берегла его, как будто знала, что понадобится.
– А что ей сделается, Людке? – Я протянула маме старые очки. – Толстеет. Богатеет. Колька ее уж полковника получил. Димка – жених.
– Не ссорьтесь. Вас только двое, – строго сказала мама.
Мне показалось: она хотела меня обнять, но вспомнила, что это плохая примета – покойникам обнимать живых.
– Ты сама-то как? – Я запоздало поднялась с табуретки. – Как кормят? – Я не знала, что еще удобно спросить про тот свет.
– Нормально. Я даже поправилась. – Она подняла в доказательство полные руки. – Сейчас отпускать стали. Я сначала к тебе. – Мама взяла пустую сумку, в которой принесла продукты, и шагнула в прихожую.
Я хотела спросить ее про отца, но не успела: она ушла в зеркало.
С утра позвонила сестре Людмиле, чтобы обсудить, к чему все это. Еще бы: сон такой…
Не успела толком рассказать.
– К чему, к чему?! – перебила Людмила. – На кладбище чаще ходить надо. Поминки вовремя справлять, – сразу разозлилась она.
На кладбище к маме мы всегда ходили с Людмилой. Она выступала вожаком стаи родственников. Везла их на своей красивой машине, напихивала престарелых дядей и тетей, как шпроты. И они смирели, вели сердечные беседы с великой Людмилой, толщина и густой голос которой заставляли их вжиматься в сиденье. В руке ее всегда был дорогой букет.
В сумке дорогой алкоголь. В багажнике тряпки для мытья ограды, и она выдавала всем по одной, чтобы не расслаблялись.
Она не позвала меня в этом году, мне не хватило места, и я забыла, – конечно, забыла, что прошло девятнадцать лет. Иногда она не зовет меня из вредности, зная, как я отношусь к этим ритуалам.
– Ты хоть знаешь, что на поминки варят? – начала она нападение.
– Ну, так… приблизительно. Если надо, сориентируюсь.
Я уже чувствовала подвох.
– И это в тридцать с лишним лет, – с ехидным вздохом срифмовала Людмила. – Да-а-а-а, сестра. Ты меня в очередной раз удивила.
Сказав, что звонит сотовый, она положила трубку.
Назревала ссора.
Я ее ненавидела все сознательное детство. За то, что она – старшая.
А мне – все “по наследству”. За то, что у нее волосы спадают черной волной, как у немецкой куклы. А у меня детское прозвище – “звонок лохматый”: на голове – разворошенная соломенная копна, а голос – как сигнал sos. Когда я плачу, у меня у самой закладывает уши.
Она тоже хотела другую сестру.
Как только она не издевалась надо мной! Выгоняла меня босиком на снег. Ноги мои ранились корочкой наста. Я театрально выла, призывая небо в свидетели.
Она закрывала меня в старом шифоньере. Это тоже из области пыток холодом. Шифоньер, празднично-желтый, был набит разным пахучим тряпьем, и я, дрожа, лезла в кучу ветоши, как червяк в перегной. Шифоньер стоял на террасе, и могильный холод царил в его недрах.
Иногда мелкие потасовки перерастали в настоящие баталии. Мама садилась на корточки и плакала во время наших драк: “Девочки, вы же покалечите или убьете друг друга”. Она пыталась схватить одну из нас за полу ситцевого халата, когда мы валялись по полу.
Иногда мы мирились, и Люда доверяла мне причесывать свои волосы, делать из них “хвостик”. Тогда я брала большую расческу с колючками на розовом поросячьем брюшке, “массажную”, и осторожно дотрагивалась до ее волос. Заглядывала в лицо: “Не больно?” Она сидела спиной ко мне на детском стульчике и снисходительно повелевала: “Чего боишься-то? Сильней чеши! Главное, чтоб петухов не было!” Давала мне резинку, и я дрожащими ручонками делала сама не знаю что, потея от ответственности.
Когда я рисовала в тетрадке бумажную куклу, то я рисовала свою старшую сестру. И платья, самые лучшие, длинные и пушистые книзу, складывала в шкафчик, сделанный из тетрадки в клеточку. На нем было написано, как на детсадовском, “Люся”.
Если честно, она была настоящей принцессой, нежной и ранимой. Плакала из-за дворовой соседской собаки: “Ну когда ее уберут, мамочка?” Но никто-никто не слышал этого тоненького голоска.
Читать дальше