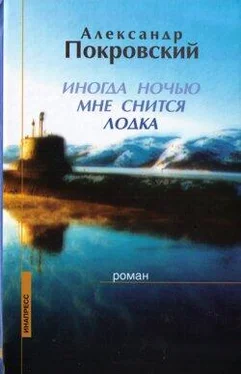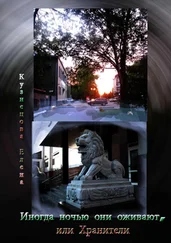И они снова, как и впервые, подходят к телу с опаской, с ожиданием нечистоты, тревожного запаха, особого вкуса.
И вот влюбленные касаются уютных телесных ложбин, где ютятся неразумные дети любви.
В них столько открытости, незащищенности. И пробуждаясь как слепые котята, они, оживая ото сна, толчками набухают, доверчиво раскрывая свои ободки и лепестки, словно приглашают восхититься собой, словно приговаривают: «Мы проснулись, скорей смотри, какие мы чудные!»
Тогда люди берут их, трогают, приникают к ним, своими устами отыскивают в них вкус, слушают их странный тревожный запах.
И вот происходит чудо – нет никакой нечистоты, никакой грязи нет, а есть только любимая плоть – такая нежная и уязвимая.
Рядом с нею, пробуя ее на вкус, все тоже давно превратились в детей с обиженными губами.
Они могут смеяться попусту или горевать сотню раз на дню.
Их иногда посещают юные страхи, и от содеянного они ощущают себя беззащитными, словно им продувает лопатки и сосет под ложечкой, как если бы где-то в толпе на мгновение они потеряли свою мать.
Любовь меняет все.
Вот та, что раньше представлялась вероломной обманщицей, плотоядным цветком, в котором все живое обречено смяться, втянуться в ее бездну…
Вот она, та сокровенность, полная бессилия, о которой чей-то вкрадчивый голос только что нашептывал сладкие пакости, как и другой голос, дружеский и тревожный, волнуясь, перебивал и торопился прибавить: «Не верь, она завлекает, это она овладевает тобой, а не ты ей, она утянет, и ты погибнешь, она поглотит тебя и твой мир как вареное яйцо!»
Но она как жалкая угасающая устрица, что устала бороться и не напрягает более свою плоть, не стягивает мягкие створки, а может только лишь едва пошевелиться и, вздрогнув, растечься в стороны, обнажив все свои складки, что сейчас же нарисуют линии, полные жалости, готовые принять осмеяние и позор.
И кажется, они заводят с нами молящий разговор.
Сначала они говорят:
«Не надо, ну пожалуйста, не надо!»
А потом:
«Ну, вот и все…»
* * *
А тот росток-недотепа, слывущий за большого бродягу, просто растение, что оживает весной, набухает, как плод внутри материнского чрева и доверчиво тянется, ждет участия или сочувствия и распускается только тогда, когда достаточно уже уверил себя, что его единственный смеженный глаз никого больше не напугает.
Допросившись ласки, он задрожит, забьется и заставит вспомнить жаркие воды Нила или сверкающий отек опала, который природа так долго держала во рту, или звездное небо над головой, до которого, впрочем, ему никак не дотянуться.
Это любовь.
Можно, конечно, думать о ней на дне железного отсека.
Можно видеть ее во сне.
Можно видеть объект своей любви.
Его тело.
К нему можно протянуть руки и потрогать, приласкать, и он может быть то мужчиной, то женщиной, и это не удивляет, потому что в этот момент, оказывается, не спит твой ум, который знает, что все это сон, а во сне всё может быть, всё возможно, хотя в первый момент тело вздрогнет, и человек скажет себе: «Где я?» – «Спи, спи, – ответит ум, – никто не увидит. Ведь здесь нет слов – нет свидетелей. Свидетелей-слов и слов-свидетелей. Это сон».
И человек рассмеется, потому что это сон, а во сне можно смеяться, улыбаться, ничего не боясь и ласкать кого тебе вздумается, и ум скажет на ухо, что у любви нет пола – и ты кивнешь ему.
«И рядом с ней нет вожделения, – добавит он, – а есть только ласка».
И ты согласишься, а светлячок за грудиной уже вовсю потрудился, обходя свой невеликий алтарь; и ласка, что досталась тебе, уже разливается неразумными кругами по коже, которая сравнима с водной гладью, и по ней бегут молодцы-водомерки, словно спортсмены на коньках, а под лезвием у них вспыхивают миры, города и страны, в которых встает солнце.
Пусть нашему герою приснится любовь.
А лучше соитие, и об этом сне он никому не расскажет.
Пусть все происходит без слов.
Вернее, слова пусть будут, но что-то или кто-то, нисходящий к человеческой слабости, к словобоязни, сразу же изымет их из его памяти, оставив только самое приятное – обласканность и утоленность, в которых можно купаться так же, как и в любимом взоре. И пусть по его телу пройдет судорога, а лучше – волна.
Она возникнет от тончайших волосков китайских кисточек, которые сопровождают те слова, так ласкающие его.
Они имеют отношение к сиянию глаз, к тому особому состоянию жидкости, омывающей зрачок, – они заставляют сразу же позабыть все сказанное.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу