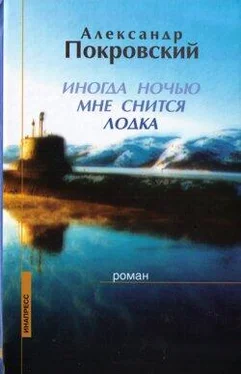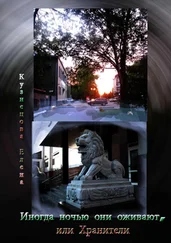Но тогда это было не главное.
Его поразило и даже повергло в растерянность другое: как могло случиться, что они поменялась с Петром ролями.
Ведь это он держал в своих руках все нити их отношений, он был избалованный гурман, отвергающий то одно, то другое, капризный рыболов, лениво закидывающий удочку, уверенный в везении, удаче, небрежно снимающий с крючка улов, он был соблазнитель и поучающий деспот. Но незаметно произошла ошеломительная подмена и, решившись пойти к человеку за теплом, по праву, как он считал, ему принадлежащим, он наткнулся будто на зеркало, на свое собственное отражение.
И, возможно, устрашившись этой оскорбляющей зависимости, короткого поводка, он и предпочел разрушить все то, над чем, наверное, следовало бы им обоим еще долго и долго трудиться.
Хотя, конечно, и в момент ссоры, и спустя некоторое время после нее он всего этого не знал.
Да и не мог знать. Это знание пришло к нему много позже.
Оно пришло к нему, уже успокоившемуся, уже выговорившему почти всё во внутреннем диалоге с Петром.
Он нашел массу доводов и разных слов, которые, впрочем, тут же сменились куда более убедительными доводами и еще более точными словами.
К нему, уже уставшему, пришло это знание, как приходило потом не однажды, но с каждым разом оно становилось все медлительнее, все отстраненнее, – пришло серой, мягкой кошечкой, что, удобно устроившись у него на коленях, глянув на него своими спокойными зелеными глазищами, словно дала понять: «Все будет хорошо».
И он понял все или почти все. Или сейчас ему только кажется, что он все тогда понял и смотрел спокойным теперь внутренним взором на себя того, стоящего перед разглагольствующим дураком, вспоминал себя, растерявшегося так, что собственные руки в поисках чего-то, какой-то опоры, находили только друг дружку и начинали себя пожимать, а на глаза попадались незаметные ранее необычайно выразительные мелочи, мусор, вроде облупившейся черной краски на пирсе, каверны, которые напоминали своими очертаниями материки и говорили на детском языке: «Это – Африка, это – Австралия», – и их сейчас же, как и когда-то ему захотелось потрогать.
А еще на глаза попадал вспыхивающий блеснами след от катера, далеко отошедшего, почти не слышного, по которому в безветренную погоду только и можно догадаться, что перед нами вода; или же несбритый длинный волос, двигающийся на коже в такт говорящему, способный надолго овладеть вниманием и тем самым отвлечь и спасти, оградив слух от всхлипывающего биения собственного сердца.
А потом он увидел себя со стороны.
Себя, уже вполне овладевшего собой, выждавшего удобный момент для ссоры, что-то зло, холодно, размеренно говорящего Петру, застигнутому врасплох. И смотрел он при этом на Петра так, как, быть может, взирает на мир природа – на все эти флегматичные окрестные холмы и кроны деревьев. Уставившись сквозь жирный и плотный воздух в обесцвеченное, будто выстиранное, небо за мгновение до того, как уходящая, ускользающая природа, потеряет для нас свой смысл, который мы же ей и придавали, и будет отдаляться, превращаясь в некое подобие рая, оставляя там фигуры и образы, которые мы сами в нее и вкладывали, и мы об этом не будем сожалеть.
А потом ему представилось лицо сметенного человека, а, скорее всего, не смятенного, а мучительно думающего, и не само лицо, в котором из-за отрешенности не было ничего милого ему, а только глаза, в чьих движениях и проявлялся весь томящий его недуг: веки были только чуть-чуть приподняты выше обычного, из-за чего глаза казались бы вытаращенными, оставайся они на месте; но нет, зрачки, точно огромные неутомимые водомерки, зачем-то занявшиеся в весенней луже синхронным катанием, совершали торопливые перемещения внутри некоторого ограниченного пространства, но, достигая края, они беспокойно отталкивались от него, вроде боялись обжечься или оступиться, заступить за черту, и сейчас же устремлялись в противоположную сторону. Казалось, покрой их веками, и они все так же будут метаться под ними, ну совсем как это происходит у спящего и видящего сны.
Чье это лицо?
Петра?
Или его собственное?
* * *
Ему не хотелось об этом думать.
Ему – уже лежащему в каюте, на полке, на верхнем ярусе, захотелось вовсе отстраниться от мыслей, и он приказал себе отказаться от всякой мысли.
Он отгородился прикроватными занавесками от наползающего мира каюты, от висящих по углам одутловатых шинелей и кителей, хранящих воспоминания о фигурах владельцев.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу