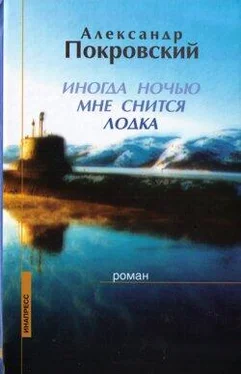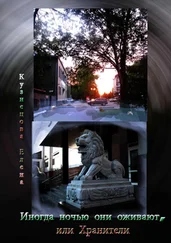Он даже обрадовался этому желанию и, можно сказать, даже полюбил эти уши в тот момент не меньше, чем ребенок, который любит неопрятную плошку, которую он только что вылепил из сырой глины.
Он тихо смотрел на них именно как создатель, ну, как первооткрыватель, по меньшей мере.
Он даже придумал сцену и сейчас же воплотил ее, сделав вид, что у того бедняги что-то есть там за ухом.
«Что это у тебя там?» – спросил он озабоченно. – «Где?» – отозвался тот, выпрямившись, вглядываясь в зеркало. – «Да вот, – и он потрогал его за ухо, очень довольный тем, что ему это удалось. – Да нет, ничего, показалось, мыло, наверное». – «А-а…» – сказал тот успокоено и продолжил плескаться.
А он немедленно отдался изучению всех оттенков полученного впечатления: уши оказались очень мягкими, почти ласковыми на ощупь; значит, дело не в них, хотя и эта их ласковость, безусловно, будила в нем какое-то раздражение. Но причину его ненависти следовало бы искать не здесь, а где же?
И тут ему отрылось, и произошло это тотчас же, как только тот – умывающийся – приступил к вытиранию мохнатым полотенцем шеи, лица, которые из-за этого предприятия представились единым целым. Он проделывал это с гримасой огромного удовольствия, казалось, он стирает полотенцем кожу, так быстро и ловко он перехватывал его на лету, ну совсем как подхватывающая удлиняющиеся куски сырого теста женщина, занятая изготовлением лаваша.
Он понял, что ему ненавистна именно эта, открывшаяся в обтирании, жажда телесных удовольствий, виденная им десятки раз, но только сейчас осознанная; эта бодрость, жадность, ловкость, и та сила, с которой человек это делал, та страсть, с которой он предавался подобному занятию, та почти звериная радость, что лучилась в каждой складке его тела, то разухабистое кряканье.
Он чувствовал, что ненавидит силу чужой жизни.
«Ну, зачем так яриться, – подумал он об умывающимся, – ведь через час все равно придет сон?»
А потом он посмотрел на себя в зеркало: лицо его выглядело усталым, злым, но лишь только взгляд его сместился немного в сторону, лишь только он потерял свою остроту и упрямую неподвижность, как ему показалось, что оно сделалось чуть ли не жалким, разве что не молящим, и это было отчаянно неприятно осознавать, и он принялся почти столь же поспешно, как и предшественник, плескаться и чуть ли не так же, чуть ли не с такой же силой обтираться после.
Прохладная кремовая рубашка с накладными погончиками ласково касалась кожи, когда он, не торопясь, застегивал на ней бесчисленные пуговицы.
Она, пожалуй, открывала тот небольшой список вещей, которых здесь хотелось касаться.
А еще тянуло прикоснуться к маленьким якорькам, которые, казалось, одним ударом клюва посадила на пуговицах какая-то неведомая птица.
Такими же якорьками были украшены и игрушечные стаканчики для кофе.
Верхнюю пуговицу на рубашке разрешалось не застегивать, и это, как ни странно, сообщало утреннему процессу привкус некоторой домашности, уравнивая в правах на эту пуговицу и старших, и младших.
У каждого за столом было свое место, и каждый вынужден был из раза в раз видеть напротив одни и те же лица.
Их случайное отсутствие вызывало волнение, и он даже скучал по ним во время ночной вахты; но все же скучал он, конечно же, не по ним, а по разрушенному обряду утренней еды, которую удобнее всего было поглощать в привычном окружении – например, равнодушно уставившись в физиономии жующих соседей, тупо отмечая крошки хлеба в бороде напротив и попавшие в ложку или в стакан где-нибудь на пятидесятые сутки плавания чьи-то отросшие усы.
Тогда же он начинал примечать, что губы напарника, пожалуй, слишком тщательно собирают всякие там крошки, прикусывая их губами; тогда же он слышал звуки, что сопровождали все перемещения ложки в соседском рту, и исподтишка, со злой радостью рассматривал лицо человека напротив, с некоторым тихим восторгом отмечал его усталость, дряблые мешки под глазами, ублюдочность взора, рассеянность, расхлябанность, нездоровый цвет тугой кожи.
Здесь можно было отпустить бороду, что на берегу было невозможно и против чего было немало всяких директив, приказов, разъяснений: считалось, что борода не позволяет резиновой маске противогаза плотно прилегать к коже, из-за чего, якобы, остаются щели, и отравленный угарным газом воздух при пожаре будет попадать под маску, удушая человека.
Но в первые дни плаванья начальство смотрело на это нарушение сквозь пальцы, и лица стремительно обрастали жесткими зарослями курчавых волос, словно приаральские тугаи. И эта перемена позволяла соседям напротив с беспечностью мух застревать взглядом в этой заросшей топографии, и с мнимым душевным расположением искать и отыскивать в чужой поросли застрявшие крошки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу