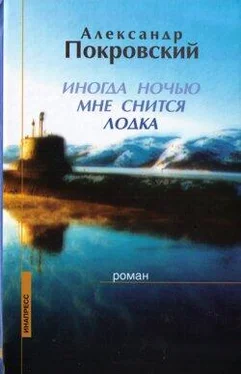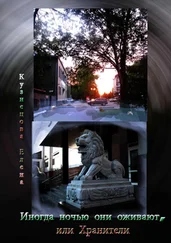1 ...8 9 10 12 13 14 ...36 Запах Петра его не раздражал, и это было важно, ибо он знал, как легко можно возненавидеть человека за один только его дух.
И в самом начале их отношений он, помнится, вдруг всполошился, потому что решился на них, не уяснив для себя до конца столь важную вещь. И он – теперь это без улыбки нельзя было вспоминать – встал рядом с Петром и незаметно – смешно, конечно – осторожно понюхал его плечо.
Пахло вымытым телом, запах был лишь слегка кисловатый.
Хорошо, что Петр так пах.
Он тогда очень этому обрадовался и даже коснулся его плеча, и в этом прикосновении была заключена какая-то очень-очень давняя радость.
Может быть, такая же, как та, что заставляет школьников ходить в обнимку. Кто знает.
Ему было приятно об этом думать, но затем он с недоумением обнаружил, что память о прикосновении жива до сих пор, а чудесные и загадочные последствия того события и возникшее в груди чувство счастья, такого нужного, такого желанного когда-то, виновного в установлении удивительного внутреннего покоя и в упоительной свежести, чистоты всех его чувств – живы в ней и теперь.
Какое-то время он еще колебался, готовый спугнуть тот лохматый, словно шаловливый щенок, комочек счастья.
Его колебания были подобны тем, что испытываем мы перед купанием при входе в воду, прежде чем окунемся с головой.
Но потом он отдался этому счастью, и незамедлительно во всем его существе, как и во всем, что он делает, будет делать, о чем он думает и только думает думать – установилась необычайная легкость, сравнимая лишь только с легкостью, с какой выбалтывает свои секреты птичка, скажем, иволга, известная болтунья.
И еще ему стало казаться, что он давно и мучительно только этого и желал, и возможно теперь он бесчисленное количество раз на дню будет спрашивать себя: есть ли там у него внутри счастье, там ли оно еще, такое ли оно, как мгновение тому назад, и все это будет похоже на то, что делают все дети, прячущие в тщательно вырытое углубление в земле, в дышащую теплой прелью ямку свои сокровища: бесценные разноцветные бусинки, ничего не значащий для других мусор, бумажки, фантики, прикрывшие все это осколком стекла, засыпавшие его сверху землей, прижавшие ее ладошками, сотню раз на дню подбегающие и осторожно, чуть дыша, с тревогой и любовью разрывающие свой клад, свое богатство, чтобы проверить, цело ли оно еще.
А счастье – неумолимое, неуловимое – способное то сжиматься внутри до булавочной головки, когда кажется, что оно там вот-вот потеряется, и сигналы-толчки, поступающие от него, лишь едва-едва уловимы; то неожиданно вырастающее до гигантских размеров, стремительно заполоняя все без остатка, каждую твою лесенку, уголок, прихожую, напоминая о своем присутствии так пронзительно, что можно было бы говорить о его уколах, и так сильно, что можно было бы вспомнить о стремительном объемном возгорании, и еще так громко и гулко, словно по булыжной мостовой шагает каменный исполин, и тебе – робкому, страшащемуся его приближения – передается каждое сотрясение почвы.
Счастье будет жить в тебе ровно столько, сколько нужно ему. Оно то приближается к порогу насыщения, – и тогда возникает удивительное ощущение танца, будто танцует кто-то, может быть ты сам, постепенно ускоряя движения, перемещаясь все ближе и ближе к чему-то опасному, может быть очень-очень горячему, из-за чего ускоряются все реакции, истончаются все ощущения, когда чувствуешь любое дуновение и движение материи, и нет различия между тобой и твоим окружением – ты и воздух, и стены, и листва, и дорога – и ты рядом с той гранью, с тем пределом, когда один миг равен всей жизни и обычная твоя жизнь – та, другая, прошлая – вдруг представится в это мгновенье слишком плоской, жалкой и пресной, но лишь потому, что открылись чудесные шлюзы, и ослепляющей оглушающей галдящей массой счастье хлынуло в тебя, и разбит ты без всякой боли на множество осколков, которые по сути своей тоже ты, но у каждого теперь своя стереометрия.
А то оно замрет в тебе, повисшее, покинутое, и возникает такая тишина и исчерпанность, словно ты в опустевшей комнате, обратившийся весь в истончившийся слух, а из комнаты вынесли почти все вещи, все эти сердечные манатки, безусловно имеющие отношение к людям, любви, человеческому сердцу, несомненно связанные с ними ничтожными нитями, теперь безжалостно смятыми, разорванными, спутанными – все эти стулья, кресла, шкафы.
Оставшиеся вещицы своим потерянным видом ранят так глубоко и так больно, потому что кажется, что они не в силах восстановить те нити, хотя и пытаются это сделать; но вот выносят и их, и осиротевшая комната, жадно ловящая твой голос, отражающая его многократно, словно хочет сказать: «Ты все еще здесь? Как хорошо. Я рада…» – и сейчас же забегают по стене солнечные зайчики, Бог весть откуда здесь появившиеся – может быть, так она приходит в себя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу