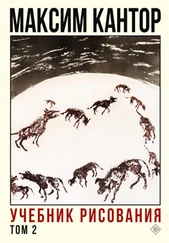1 ...5 6 7 9 10 11 ...762 — Ну что ж, можно сказать и так. А можно и по-другому: и на Запад, и в Сибирь. Петр через балтийское окно хотел в Европу залезть, да застрял, узким окно оказалось; теперь надо делать дверь. И кто знает? Не в Сибири ли? Не через Тихий ли океан? Балтика мала оказалась. Мало окна, Владислав Григорьевич, страна у нас с вами большая. Дверь нужна.
— Вот к нему обращайтесь, — и Тушинский показал на Кузина, уже изготовившего реплику и только ждавшего ее сказать.
— Вы столяр? — спросил Луговой, улыбаясь, и улыбкой давая понять, что знает, кто такой Кузин, и про его идеи тоже знает.
— Дверь изготовить не фокус, — произнес автор «Прорыва в цивилизацию», — вопрос в другом: кто в эту дверь войдет. Да и пустят ли нас в эту дверь с той стороны? С чем мы в гости собрались? С колониями? С армией в три миллиона? С войсками в Афганистане? С политзаключенными?
— Было сделано много глупого, что теперь, задним числом, на мертвецов пенять. По-мужски ли это? Не причитать, а историю делать надо. Однако оглянитесь — сегодняшний день что-то решает. Вы на картины посмотрите, вы спросите художников, вы себя спросите.
— А что тут спрашивать, — зло сказал Тушинский, — конец вашей системе. Сдохла. Срок вышел — и сдохла. Врали, запрещали, тянули время — но теперь время вышло, пришла пора помирать. Казалось, износа нашим хозяевам не будет — вечные. А как хозяева один за другим перемерли, — он говорил это открыто, резко, не скрывая, что говорит о генсеках партии, действительно умиравших в прошлом году подряд один за другим, — как законопатили их в Кремлевскую стену, так и некому стало систему вранья поддерживать. Вопрос в другом: захочет новое поколение, чтобы вы его тоже дурили? Думаете, опять захочет? Думаете, тот же номер пройдет?
— Чтобы войти в семью цивилизованных народов, — сказал Кузин, у России есть основания. История Европы и история России связаны, по сути, это одна история. Общая. Но Россия больна — семьдесят лет как длится болезнь.
— А может быть, это у нее здоровье такое?
— Здоровье? — и Тушинский еще ближе придвинулся, прямо в лицо Луговому выплевывая слова; он мастер был говорить, всегда сам увлекался, рассказывая, на его лекции набирались полные залы. — И вы еще произносите слово «здоровье»? Чье здоровье? Бабок, что по тридцатке пенсию получают? Узбекских школьников, которых гонят собирать хлопок? Алкашей, которых травят поганой водкой? Или вон Виктора Маркина — восемь лет ученый на Севере кайлом махал — вас озаботило здоровье? Вот у его жены спросите, — он прямо указательным пальцем ткнул в стриженую девушку, и Павлу стало почему-то неловко, — много внимания правительство уделило его здоровью? Вы красивую историю рассказали нам про звонок Сахарову. Да, умилительную историю рассказали. — Тушинский помолчал. — Не пересказали только ответ академика. А он сказал вашему генеральному секретарю, что третьего дня в тюрьме, не выдержав голодовки, умер Анатолий Марченко! Вы слышите?!
— Марченко умер? — лицо Бештау исказилось. Мало кто из собравшихся, людей избранных, не знал о том, что Бештау был другом Марченко.
— Умер. От голода умер.
— Палачи! — и рука Бештау сжалась на плече Павла.
— Марченко не воскресить, — сказал Луговой мягко, — но надо жить дальше.
— Жить — но без вас! Жить — но без палачей! — сказал ему в лицо Тушинский. — Жить, но в таком обществе, которое раскается в преступлениях.
— Раскаяться — не проблема. Нам, русским, каяться не привыкать. Покаялся, да и спать лег. Проблема в другом, Владислав Григорьевич, — в строительстве общества. Со мной собираетесь строить или без меня, вопрос тактический. Это уж как вам благоугодно будет. Я человек служивый: позовут — к работе готов, не позовут — навязываться не стану. Только строить общество надо. Вы уж, я вас умоляю, от строительства не отказывайтесь.
— Построим, — сказал Тушинский, — не сомневайтесь. И коллегам в четвертом отделении передайте: построим.
— Да я верю! Как не поверить? — и Луговой махнул пустым рукавом в сторону произведений искусства. — Вот уже, я вижу, строительство началось!
— Если и впрямь оценить сегодняшнее событие как историческое; если внимательно посмотреть на стены, как вы советуете, — это уже Кузин подхватил, он говорил гораздо мягче, понимая, что фактически транслирует сообщение прямо в высшие сферы, — если отнестись к искусству действительно как зеркалу общества, что же мы увидим? Давайте задумаемся над этим.
V
И они обвели взглядами зал, увешанный яркими полотнами. То было новое искусство, русским обществом прежде невиданное. Время слезливых пейзажей родного края миновало. Это прежде отечественные художники тщились тронуть сердце обывателя мелодраматическими ландшафтами. Сколько их, бессмысленных произведений, имевших одну цель — заставить поверить, будто убогий край по-своему привлекателен, сколько их было намалевано за годы советской диктатуры! Хватит, насмотрелись, накушались этой дряни до рвоты. Баста. Нынче искусство стало другим — бескомпромиссным и ярким. Это были карикатуры на Ленина и партию, хари алкоголиков, пародии на советские плакаты и всякого рода агитацию и пропаганду. Художники выставляли напоказ уродство быта и мерзость жизни: они прибивали к стенам кривые сковородки и трехзубые алюминиевые вилки — позор советского общепита, они выставляли напоказ корявые табуреты и продавленные матрасы — а именно в таких условиях и жили советские люди, они клеили коллажи из унылых образцов казарменной одежды. Смесь поп-арта и концептуализма, абстрактного искусства и карикатуры — все это было лишено одного стиля и не являлось никаким направлением. Но в целом искусство рассказывало о дикой, невыносимой жизни. Пародии на советские плакаты кричали о том, что наша страна самая передовая: в ней и паралич самый прогрессивный, и проволока самая колючая, и прочее в том же духе; а с холстов смотрели уроды, исковерканные действительностью нелюди.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
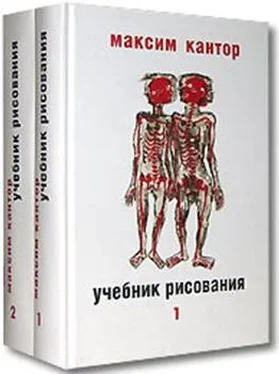





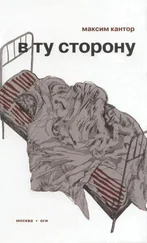



![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)