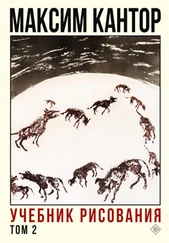Жизнь устроена так, что невозможно прекратить какую-либо деятельность без того, чтобы иного рода деятельность не заменила ее. Если не совершить поступка, это вовсе не будет означать, что наступил перерыв в деятельности вообще, что вовсе никакой поступок не будет совершен. Поступок будет совершен непременно, просто совершит его кто-то иной, и, вероятно, иначе, чем это сделал бы ты. Историки умиротворенного западного мира заговорили о конце истории в то время, когда речь шла только о завершении определенной концепции: история не думала останавливаться. Отказ от гуманистического христианского искусства сделал актуальным язычество, и язычество — в новом, постхристианском обличье — стало определяющей силой истории.
Сумев отстоять свое прошлое в мировой войне, Европа добровольно разрушила будущее, и куда эффективнее, чем это сделали бы гитлеровцы или большевики. Заменив понятия «гуманизм» на понятие «прогресс», Европа смирилась с фактом: прогресс воплощает сильный, и необязательно, что сильной будет Европа. Представление о свободе как об абсолютном благе, лишившись христианского наполнения, стало оправданием силы — а сила не знает снисхождения, в том числе и к Европе.
Русскому интеллигенту, либеральному коллаборационисту, было трудно поверить в конец Европы: не может быть смерти там, где продают вкусную колбасу. Однако даже русские интеллигенты в конце концов заметили проблему и примирились с тем, что новой европейской жизни не начнут — за отсутствием жизни в организме Европы. Несмотря на привычную зависть к европейскому благосостоянию, русские интеллигенты разглядели, что в Новой империи найдутся более интересные объекты для зависти. Это требовало коррективов в проектах; что делать — если надо, внесем.
Граждане примирились с тем, что есть: приобретения все-таки сделаны, а идеальные порывы — расплывутся в истории, как нечеткая фотография.
Да, хотели свободы; да, алкали прорыва в цивилизацию; да, собирались строить общество, руководствуясь идеалами гуманизма. Что-то из этого набора получили, что-то не получили — но все подряд получить и невозможно. Время и сила вещей сами отбирают нужное, отсеивают случайное. Хотели демократии — а построили дачу, искали справедливости в социальных институтах, но обрели профессорский чин в Бостонском университете. Ну и что здесь дурного? Есть история духа (то, что Соломон Рихтер назвал бы парадигмой истории), а есть обыкновенное течение событий (как сказал бы Рихтер, социокультурная эволюция). И живут они параллельно, друг другу не мешают. Есть памятник герою прошлых эпох, стоящему с саблей в руке, — ну, допустим, памятник Джузеппе Гарибальди; ничем не хуже будет монумент его потомку, герою нового времени, вздымающему в воздух сосиску или подсчитывающему выручку у кассового аппарата. Получилось, что искали свободы, а идеалами общества стали обжорство, блядство, воровство и подлость. Хотели одно, получили другое, но в целом все устроилось.
Устаканилось, как подытожил процесс Борис Кириллович Кузин. История рано или поздно разровняет пространство, изрытое окопами, — разногласия сотрутся, тождества заменят противоречия. Если бы герой Вердена маршал Анри Петен не сочувствовал успехам генерала Франко, пребывая на посту посла Франции в Мадриде, кто знает, нашел бы он адекватное решение в оккупированной Франции? Если бы лейтенант Де Голль не прошел школу твердости у полковника Петена, кто знает, сумел бы он отстоять национальную гордость Франции? Если бы Помпиду не учился гибкости у генерала Де Голля, может быть, он не сумел бы осуществить демократических преобразований, сводящих амбиции генерала на нет? Подчас поступки этих персонажей спорили друг с другом, но все трудились на благо цивилизации, а кто из них герой, кто коллаборационист — сейчас не разберешь.
V
Так и судьбу героев этой хроники предопределили воспитание и среда, а убеждения со временем сделались неразличимы. Что на роду написано, как говорит Иван Михайлович Луговой, того не избежать.
Сам Иван Михайлович живет на пенсии в любимом своем поэтическом поселке Переделкино. Разумеется, не одной лишь пенсией питается его бюджет: здесь и акции нефтяных концернов, и прибыль с приватизированных месторождений алюминия, и доходы от газеты «Бизнесмен», коей Иван Михайлович теперь владелец. Однако от дел Луговой почти отошел — так, изредка наведывается в Кремль по мелким хозяйственным надобностям. Иван Михайлович не уподобился немощным пенсионерам: он сохранил стать и силу. О диете, докторах, постельном режиме речи, разумеется, нет. Бутылка хорошего бордо, жареное мясо, дружеская компания — вкусы ответственного работника не изменились. Вечерами сидит он на своем участке в обществе верной супруги Алины и старого товарища Германа Басманова, подкидывает сосновые поленья в огонь, смотрит сквозь бокал на игру пламени. Два старых бойца сидят рядом, плечо к плечу, так же точно, как стояли они на идеологических баррикадах всю жизнь. Время иссушило их лица, словно изваяния из кремня, смотрят они на поэтическую природу Подмосковья. Беседовать старым ландскнехтам ни к чему: они все давно знают, и про людей, и друг про друга. Разве что поворошит один из них угли в затухающем костре да похвалит дрова, а другой плеснет вина в бокал да отметит год розлива. Ничто не тревожит их покой. Правда, случается такое, что хрустнет ветка в кустарнике, и тогда Иван Михайлович вскакивает с места.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
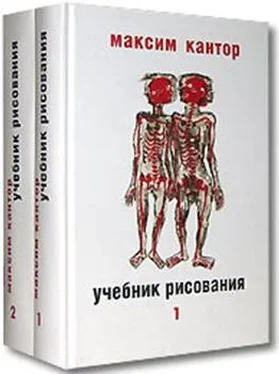





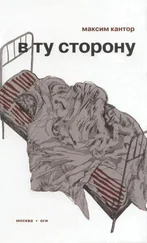



![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)