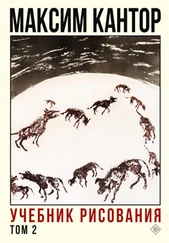Кузин прервал речь, перевел дыханье. Свободной левой рукой он вытер пот со лба и продолжал. Последние слова он говорил уже спокойно, без аффектации, тихо.
— Я не убийца, — сказал Кузин, — мне противно насилие. Я знаю, что насилие порождает насилие, зло порождает зло. Я знаю, что, как человек, я не имею права убить другого человека. Но у меня нет выбора. Нет выбора у России. Безвыходность дает мне это право. Я вас убью.
— Вы закончили? — кротко спросил Луговой.
— По-моему, достаточно.
— Более чем достаточно. Защите придется нелегко. Сейчас дадим ей слово. Надо только прокурору поаплодировать — это существенная часть ритуала.
III
Луговой менял выражение лица и манеру поведения несколько раз на протяжении разговора. Только что он сидел, нахмурившись, говорил отрывисто; несколько минут назад он кривлялся, бравировал, называл Бориса Кирилловича «говном»; теперь же, когда Кузин завершил свою речь, Луговой словно бы просветлел лицом и, изображая слушателя в зале суда, привстал с кресла и похлопал ладонью по пустому рукаву — сделал вид, что аплодирует. Затем он снова сел, подпер щеку рукой и словно бы погрузился в раздумья, вслушиваясь в себя. Он вполне вошел в роль адвоката, потер лоб, посидел сутулясь, потом встал, прошелся по комнате.
— Итак, — сказал Луговой, — обвинения серьезны, и прокурор требует высшей меры для моего подзащитного. И действительно: может ли общество терпеть такого, как он? Растлитель, лжец, интриган, казнокрад! Если все сказанное выше — правда, то я сам присоединю свой голос к обвинению! Повинен смерти! Кстати, — оборвал себя Луговой, на миг вышел из образа, превратился в хозяина кабинета и спросил буднично, — может быть, коньячку? Взбодриться, а? Перерыва не делаем, на совещание не уходим, так, может, вам рюмку налить? Нет? А я не откажусь.
Он подошел к буфету, открыл дверцу бара, долго выбирал бутылку, остановился на пузатой, покрытой не то паутиной, не то плесенью.
— Кальвадос, пятидесятилетний кальвадос. Коньяка хорошего не нашел — но и это вещь недурная. Уверены, что не хотите?
В другое время Кузин бы не преминул попробовать напиток. Даже сейчас, несмотря на остроту момента, в нем шевельнулось любопытство: что ж это такое — пятидесятилетний кальвадос? Однако он резко мотнул головой — не желает он пить с негодяем. Луговой наполнил округлую рюмку, покачал рюмку в ладони, внюхался в напиток, пригубил, почмокал губами.
— Коньяк не нашел, — он говорил скорее сам с собой, нежели адресуясь к Борису Кирилловичу, — кто-то тут у меня шарит в баре, коньяк попивает. Не первый раз бутылки пропадают. Любовников у моей милой супруги не перечесть, то один в бар заглянет, то другой. Так ведь и коньяка не напасешься. Вы, Борис Кириллович, как, не хаживаете в мою квартиру, когда меня нет? Да не отмахивайтесь, я же не против. Пусть балуются! От Алины не убудет. Моя дражайшая половина для меня символизирует Россию: какие бы захватчики не приходили, кого бы она не заманивала на свое ложе — а принадлежит она мне и никуда от меня не денется. Что толку мне к шведам ревновать или к немцам — к Струеву или Кротову? История свое возьмет. Вот только за коньяк обидно. Впрочем, и кальвадос недурен. Напрасно отказываетесь.
Неплохо. — Он сделал еще один осторожный глоток. — Неплохо, да. Итак, защита. — Луговой преобразился, теперь это был не хозяин кабинета, но адвокат, пылкий, совестливый. — Обвинения серьезны, но имеют ли они отношения к моему подзащитному? При чем здесь он? При чем здесь я, уважаемый обвинитель? Я разве скрывал когда-нибудь, что я есть держиморда и сатрап? Разве вы этого про меня не знали с самого начала? Зачем же от меня хорошего дожидаться? Пафос речи прокурора сконцентрирован в ключевом слове «предатель»! Но кого я предал? Уж не тех ли, кто заранее знал мне цену? Знал эту цену и Дупель, и интеллигенты, и вся прогрессивная общественность! Я был верен себе — и только. Разве за это судят? Вы не меня, голубчик, вините — вы пеняйте своим коллегам-интеллигентам, тем, что прогрессивного Дупеля бросили и по кустам попрятались. Вы упрекайте западных правдолюбцев, вы с претензиями обращайтесь к вашей любимой цивилизации — что же она, непостоянная, Мишу Дупеля в беде кинула? Ах, она ветреная! Забыла своего кавалера! Он ей — и цветы и серенады, а она отвернулась, коварная. Вот о чем я спрошу присяжных — и хочу услышать ответ на свой вопрос! Почему молчит мистер Ричард Рейли, зачем безмолвствует корпорация «Бритиш Петролеум»? Где же голос непримиримого мистера Пайпса-Чимни? Отчего же не бичует он в бескомпромиссных статьях произвол над свободным бизнесом? Где же задиристые колонки «Русской мысли»? Или перо Ефима Шухмана притупилось? И почему же Ефрем Балабос, колосс российского бизнеса, не вступится за своего коллегу, за другого колосса? Взял бы да остановил свои заводы, закрыл добычу нефти, вырубил персиковый лес! А он — коктейли пьет и в шарады играет. Отчего так? Не задавали себе такого вопроса? Это я к присяжным так обращаюсь, — пояснил Кузину Луговой, — задаю им риторические вопросы, так у адвокатов принято. А теперь сам же на вопросы и отвечу. Отступилась цивилизация от своего кавалера потому, что цивилизации как раз и выгодно, чтобы его посадили. И ее представителям это выгодно: американцам выгодно, Ефрему Балабосу и всем остальным. Притупилось, Борис Кириллович, перо Шухмана потому, что американские деньги на «Русскую мысль» поступать не будут, если сотрудник газеты станет критиковать то, что идет во благо американской экономике. А вы не знали разве, кто «Русскую мысль» кормит? А ее ЦРУ как раз и кормит, Борис Кириллович. Вы думали, это выдумка советской пропаганды? Нет, милый мой друг, это экономическая реальность. Деньги на березах не растут — их из банков привозят. И банкам этим выгоднее, чтобы русской нефтью торговал вменяемый партнер, а не сумасброд. Молчит Ефим Шухман — и будет молчать. И Пайпс-Чимни молчит оттого, что работает советником в Вашингтоне — и босс ему распоряжения еще на свободную мысль не давал. Размышляет босс, что ему выгоднее — неуправляемые амбиции Дупеля или сотрудничество с государством российским. А компания «Бритиш Петролеум» вошла в долю со мной и получит с развалин империи Дупеля хороший куш. Оттого и молчит. А Балабос молчит потому, что ему кинули процентов восемь от сделки. Он за эти восемь процентов своего коллегу с потрохами сдал. Он больше других меня и подталкивал — подвести Дупеля под монастырь. Разрешили бы ему — он бы лично семью Дупеля вырезал до седьмого колена. Конечно, ему самому немного страшно: вдруг и под него подкоп роют. И молчит — думает, отсидится, и я его не трону. Затаился Балабос, трепещет, надеется. И я, действительно, подумаю — надо мне его душить, или пусть пока в холуях походит. Они сейчас все вокруг меня вьются, норовят понравиться, попками виляют. С холуями удобно, Борис Кириллович. Покладистый народ. Их поддержка мне и государству нашему очень помогает. И главное, Борис Кириллович, что подталкивало меня, что торопило мою деятельность — это интеллигенция. Это вы и ваши друзья помогали мне в работе, Борис Кириллович.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
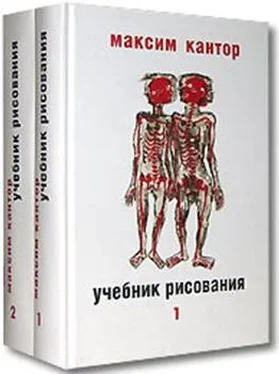





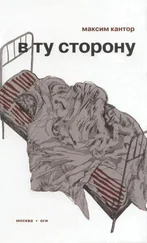



![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)