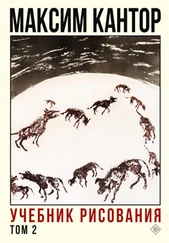Дальнейшее развитие искусств отменило изображение целого. Художник примирился с тем, что он отвечает лишь за фрагмент бытия, за крошечную часть большой картины, и никогда не пишет весь мир целиком — с его пропастями и горами. Художник (и это сделалось правилом в последние столетия) — лицо сугубо частное, его партикулярная позиция по отношению к миру сделала для него значимыми именно детали: натюрморт с бутылкой (см. голландцев, Шардена, Сезанна), портрет любимой (см. Модильяни или Ренуара), пейзаж, фигуру. Честный по отношению к своему ремесленному труду, закрывшись в мастерской, художник уже не мог отвечать за общую картину бытия — собор никто не строил. Оставалась иллюзия, что роль целого будет играть музей, который разместит фрагменты бытия в некоем порядке и реконструирует — если не общий замысел, то хотя бы время.
В дальнейшем задача художника еще более сузилась: сделалось возможным изображать лишь линию, пятно, кляксу — т. е. фрагмент фрагмента, деталь детали, атом бытия. Художник говорил себе, что он анализирует анатомию мира — на деле же он отходил от нее все дальше. Знание о единой картине бытия оказалось утрачено. Где именно разместится данный атом — в том случае, если общая картина все же будет воссоздана, — совершенно неизвестно. Прежде художник мог догадываться, что пейзаж изображенный им, мог бы располагаться за плечом Иоанна Крестителя — если общая картина мира была бы написана. Но вообразить, где будет находиться розовое пятно — в облаках над головой Мадонны или на кончике языка Сатаны, — невозможно. Художники новейшего времени принялись создавать осколки и фрагменты бытия в полной уверенности, что большой картины уже не существует.
Однако цельного замысла никто не отменял — и отменить не в состоянии. Большая картина пишется всегда: соборы принимали участие в создании ее, этой главной большой картины, и мастера Ренессанса, и Модильяни, и Пикассо, и любой, берущий в руку кисть — независимо от степени своего таланта. Эта картина — Страшный суд, то есть наиболее исчерпывающая по информативности картина бытия. Прежде художники дерзали Страшный суд изобразить, затем ленились — но (вне зависимости от намерений) их произведения так или иначе занимали свое место в этой великой финальной композиции.
Проводя линию по холсту, художник должен отдать себе отчет, какую именно часть общей картины он рисует.
Глава сорок вторая
ПРОЦЕСС
I
Даже в молодости Борис Кириллович не склонен был к авантюрам — что же говорить о годах зрелых? Полный мужчина, он был не приспособлен природой для активных действий. Даже амурные приключения (когда таковые еще случались) у Бориса Кирилловича проходили степенно, без ущерба для бытового комфорта. Однажды он объяснил свою позицию Розе Кранц (в те непростые для всякого мужчины мгновения, когда он подводил итог их короткому роману и объявлял о своем уходе) такими словами. Я, сказал Борис Кириллович, думаю прежде всего о том, чтобы остаться во всем — интеллигентом. Кузин хотел было сказать: зададимся вопросом, что такое интеллигентность? — но удержался, все же не на трибуне. Не задавая риторического вопроса, Борис Кириллович дал разъяснения сам. Интеллигентность, сказал Кузин, это прежде всего моральность и порядочность. Я связан моральными обязательствами со своей семьей и не могу причинить боль Ирине. Одновременно Кузин завязывал шнурки на ботинках и подтягивал резинки нейлоновых носков. Никогда, говорил он, поправляя подтяжки, никогда не смогу я примириться с мыслью, что ранил любимое существо. По моему глубочайшему убеждению, интеллигентный человек не может причинить боль другому. А я как же? — хотела крикнуть Роза Кранц, но промолчала и молча наблюдала, как Борис Кириллович застегивает рубашку на объемистом животе, просовывает пуговицу в тугую петлю. Пуговица упиралась, края рубахи не сходились на животе. Помимо прочего, заметил Кузин, борясь с пуговицей, наша семья не ограничивается Ириной и мной. Есть родители, мы с Ириной по возможности стараемся им помочь. Времена такие, что старикам тяжело. Питание в доме для престарелых отвратительное! Да, социальный сектор в чудовищном положении. Что говорить о стариках, отвлекся Борис Кириллович, вспомнив о своей доле, что говорить о стариках, если даже я, известный профессор, получаю гроши?! Он совладал с пуговицей и снял со спинки стула пиджак. Могу ли я допустить, продолжал Кузин, чтобы привычный уклад жизни был разрушен по моей прихоти? Воображаю, как расстроится отец, если я объявлю о своем уходе из семьи. Это может убить старика. Кузин облачился в пиджак, проверил авторучку в нагрудном кармане. В конце концов, завершил он свою речь, жизненную задачу я вижу в интеллектуальной работе. Для творчества мне необходим тот стабильный уклад жизни, который был характерен для профессорских семей России и который разрушили большевики. Это не прихоть — это условие для труда. Семья — это моя крепость. Такова была позиция Бориса Кирилловича, и позиция эта (столь недвусмысленно изложенная Розе) исключала авантюры, случайности и — уж подавно — преступления.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
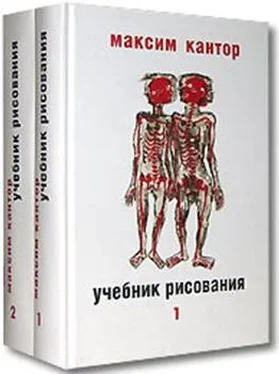





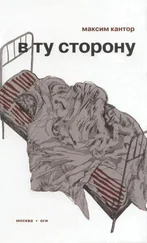



![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)