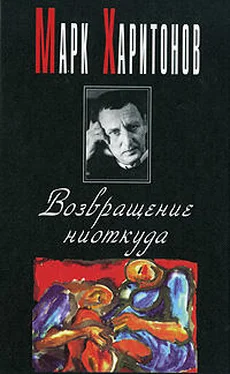Это не обо мне.
Невнятное бормотание, ты сам уже не уверен, чье. Отголоски книги, от которой осталась лишь оболочка с титулом, использованная уже как последняя подручная бумага за неимением другой. Записка из бутылки, где буквы размыты не водой, а неготовностью твоего ума. Набросок сюжета, выписки или заметки на тему неизвестного тебе, исчезнувшего текста, возгласы удивления, как будто писавший узнал свое. Что-то можно понять, лишь если переменить сознание. Только через себя, даже вопреки очевидности, вопреки достоверно- стям чужого разума. Поспешные, лихорадочные строки, вспышки сгущенной, слишком сгущенной мысли. Семечко, в котором уже содержатся корни и ствол, и шелест каждого будущего листочка, и вся пятисотлетняя будущая жизнь, но пересказать ее обычными словами — значит прожить эти пятьсот лет. Все уже произошло, мы только не способны это вместить, воспринять, не способны осмыслить того, что окружает нас в любой миг, каждого в отдельности и всех вместе, нам не хватает какого-то свойства ума для подлинного усилия, хотя потом будет не раз казаться, будто мы узнаем когда-то сказанное о нас. Чувство родственной мысли, искавшей другие слова — но о том же. Попытка прорваться, вырваться из мозговой тесноты. Буквенный скорописный шифр. Клякса раздавленных внутренностей, след нераспознанного опасного насекомого. Чувство встречи, предшествующее смыслу. Пока не дойдешь до конца, ничего не поймешь и не сможешь. Трепетные бессильные огоньки. Понимание, которое невозможно передать. Прозрачный туман.
Конечно, ни для кого, кроме меня, этих бледных каракулей на листке не существовало — и уже не будет существовать никогда, разве что я сумею вспомнить и воспроизвести. Их никто не сумел бы прочесть, даже если бы обратил на них внимание. Для мамы это была не более чем книжная порча, которую следует стирать ластиком; она сквозь них углядела на листке свое… Столько тут сразу сошлось, столько связалось потом. «Что ты опять подобрал? Зачем ты это принес домой?» — начала она голосом скорей обреченно-усталым (после работы), чем раздраженным, как человек, привыкший к выходкам своего чада, все еще словно не вполне взрослого, способного притащить в дом хоть полураздавленного воробья, не говоря о неодушевленной дряни — и я не сразу уловил перемену ее тона. «Что это?.. Где ты это нашел?» Мне показалось, что не вполне просохший листок затрепетал в ее пальцах. «Только это? И все? Больше ничего не было?» Я, как всегда, не успевал протолкнуть ответ, да слова были и не обязательны, и даже мамины слова опережались не то чтобы догадкой, но чувством, будто я что-то подобное сам думал — будто я до ее объяснений понял, чья фамилия была на штемпеле с сеятелем, не случайно же она меня зацепила, я ее откуда-то знал, даже если она не звучала при мне вслух — только не сразу вспомнил.
На самом деле я, конечно, не понимал маминого волнения — да и поняла ли сразу она сама, что значит для нее эта находка? На щеках проступил румянец. Было непривычно видеть, как она ходит по комнате, прижимая то и дело маленькие кулачки к белым кружевам у горла, которые делали ее похожей на школьницу с образцово отглаженным воротничком; никогда она так не говорила — не то чтобы со мной — при мне. Со мной обычно не говорили всерьез; меня следовало беречь от излишнего знания, даже от газет, которые мама не выписывала на дом, а читала у себя в библиотеке (заодно экономя). Тем более, я мог еще брякнуть это лишнее при посторонних. Привыкши стесняться своих вопросов, я предпочитал домысливать; но мне в самом деле казалось, я откуда-то уже знал, я слышал уже про эту мамину бабушку, меценатку и деятельницу просвещения, передавшую когда-то свою библиотеку в дар городу, из которого семилетнюю маму увезли однажды поспешно, словно от опасности, не объясняя причин бегства, даже не объяснив, что это бегство. Ей, как и мне, лучше было не знать лишнего, достаточно было усвоить, что бабушкину фамилию не следует поминать вслух. Да и зачем, если у тебя совсем другая фамилия, если вообще ты совсем другой, отдельный человек… разве не так?
Мне казалось, я способен был это если не понять, то почувствовать. Иных вещей проще вовсе не знать, ведь, в самом же деле, это экономит душевные силы, нужные для остальной жизни, избавляет от затронутости чужими делами или чужой виной, от необходимости о чем-то умалчивать, напрягаться, следить за собой, а тем более укорять себя. И так ей слишком многое приходилось скрывать: уязвимость, неблагополучие, боль в позвоночнике, неудачного сына. Скрывать значило держаться, это стало второй натурой. Ее осанка, которую не объяснишь ни просто генами (до меня вот не дошло), ни детским воспитанием и которую не отменили даже годы сидячей библиотечной работы, при первой встрече могла вызвать у человека осторожность, близкую к почтительности: Бог знает, в самом деле, откуда у нее право на такую прямую спину, на высокомерно поднятый подбородок. Но слишком скоро ее ничем не обеспеченная беззащитность становилась очевидной, ошибочная почтительность требовала компенсации в виде соседских придирок и разнообразного хамства.
Читать дальше