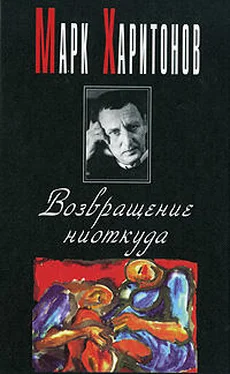Нет, уже без огонька, он не то чтобы погас, а, забытый, растворился сам собой в возобновившемся электрическом свете. Мы с папой сидим за столом. В комнате еще следы беспорядка: кто-то в наше отсутствие проник в квартиру, вскрыв непрочную дверь, даже без взлома замка, но ничего не украл (да что у нас было украсть? неподъемный магнитофон? старую пишущую машинку? баночку поддельной пасты из холодильника?), только оставил разбросанными бумаги, исписанные моим неудобочитаемым почерком, как будто именно ими интересовался, и эта бескорыстность хулиганства встревожила родителей больше возможного воровства, как все непонятное — вроде письма, оказавшегося в нашем ящике за день до того: «В ответ на вашу жалобу сообщаем, что пункт приема макулатуры N 1 закрыт по санитарным соображениям». Какую жалобу? кто ее писал? Можно было мне поверить, что не я, не стоило на меня смотреть так долго, чтобы в этом убедиться. Подобрать зачем-то испачканную бумажку, брякнуть что-нибудь невпопад — этого от меня еще можно было ждать, но не таких умышленных действий. Тем более, что наша фамилия на конверте была вписана от руки поверх какого-то первоначального Брейгеля. Может, имелся в виду прежний здешний жилец? Но у него была, кажется, другая фамилия. Или был перепутан адрес? а может, письмо было подброшено с каким-то намеком?..
В городе вообще-то не принято было носить почту на дом. Все добровольно ходили за газетами и за письмами в районную контору, где помещалось заодно и управление домами, и другие местные службы — очень удобно, экономило и время на попутные дела, и труд почтальонов, и почта сохранялась надежней, чем в ящиках, куда могли подбросить, глядишь, зажженную спичку, из простого ли озорства или, может, чтоб дать намек упорствующим любителям обособленных ячеек. Мы до сих пор вообще не получали здесь никакой почты, и родители, кажется, уже почувствовали, что поступили ошибочно, не подписавшись, как положено, хотя бы на одну местную и одну центральную газету. Теперь надо было ждать следующего подписного срока, чтобы исправить ошибку… Но в чем тут был намек? и кто это мог постараться?.. Как бы там ни было, с дверей макулатурного подвала действительно уже не снимался замок, и не к кому даже было пойти объясниться, заверить, что ты тут ни при чем, а на мальчика, право же, не стоит обращать внимания…
Смотрит на меня через стол, на скатерти зеленоватый графинчик с обрезками лимонной корки на дне; папа уже выпил стопку, точно для этого разговора ему надо было набраться духу.
— Пора поговорить с тобой всерьез. Давно пора. Все как-то не хватает времени. Я не заметил, как ты стал совсем взрослым. Уже бреешься. А жизни совершенно не знаешь. Это опасно. Это может быть опасно. Одних книг мало, я уже и маме говорил. Ты ведь даже телевизора не смотришь. То есть я не к тому… ты не подумай. Это наша вина, если мы вовремя не объяснили. Тебе и в кино было нельзя. Врачи не советовали. Ты ни в чем не можешь быть виноват и ни за что не отвечаешь. Тебя всегда надо было беречь. Ты родился таким слабеньким… просвечивал, как яичко. Мы уж и не надеялись. Да еще в такое трудное время, такое опасное время, когда не знаешь, откуда чего ждать. И вот ты, оказывается, совсем большой, я не заметил. Давно ли я нес тебя на руках из роддома, ты дышал мне в рот сладким молочком. Подумать только…
Подливает из графинчика в зеленоватую стопку. Стекло запотело, испарина удовлетворения проступила на лысине, лицо умиленно размякло. Ты смотришь на человека, бывшего когда-то великаном твоего детства, вызывавшим восхищение, любовь и сладкий ужас. Ему ничего не стоило поднять твое тело высоко над землей, двумя руками и даже одной, уперев громадную великанскую ладонь тебе в живот, так что надо было судорожно напрячься, чтобы не упасть с головокружительной высоты — сердце замирало над провалом, готовое оборваться. Другие взрослые не были такими гигантами и не обладали такой силой, хотя при этом своего папу ты мог побороть, мог положить на лопатки, веря, что он не поддается — в те редкие, сладостные часы близости, когда он бывал дома и у него находилось на тебя время. Умом ты знаешь, что это были вы. Он тоже смотрит на тебя, на взрослого, уже бреющегося мужчину, пытаясь совместить его с младенцем, которого можно было держать на руках… нет, еще непостижимей — с веществом, ждавшим когда-то в твоем теле пробуждения или осуществления. Отдельный, отделившийся, будто даже незнакомый человек — как бы ему объяснить для безопасности будущего что-то, что самому кажется понятным лишь до поры, пока не начинаешь подыскивать для этого хотя бы начальные слова?
Читать дальше