По правую руку чередой стояли сараи, в которых держали всякую всячину, но по преимуществу березовые дрова. Запасались ими по осени, и где-то в начале октября у нас на дворе то и дело появлялся одноглазый мерин Задор, запряженный в телегу на резиновом ходу, которая была нагружена березовыми чурками и рамой кубометра, сваренной из железного уголка. За сараями была помойка, то есть большой дощатый ящик, похожий на секретер, который распространял тошнотворный запах в диаметре от крайнего сарая до кучи битого кирпича.
Вся эта география с трех сторон была огорожена сплошным забором в человеческий рост, а с улицы — палисадником по фасаду и двумя огромными воротами на массивных петлях, которые скрипели душевынимательно, как визжит ножик, царапающий по стеклу. Странно сказать, но все это была Москва — в десяти минутах неспешной ходьбы уже тренькали трамваи и фланировала, по тогдашним моим понятиям, праздничная толпа…
Ничего этого теперь нет. Видимо, нигде так искрометно не бежит время, как в России, хотя по существу в ней не меняется ничего. Ведь и пятидесяти лет не прошло, а решительно не узнать географии моего детства, точно ты спьяну очутился в другом городе, — всё другое, одна Яуза, образец постоянства, как текла себе с юго-востока на северо-запад, так по-прежнему и течет. Под стать ей разве что вечная обостренная памятливость детства, которую объяснить можно, постичь нельзя. Почему, спрашивается, я ни синь пороху не помню, что любопытного произошло со мной в 1981 году, но вижу, точно это было вчера, как Борька Шмаровоз вертит над головой благим матом орущего кота, держа его за пушистый хвост…
По мере приближения к школьному возрасту мой большой мир постепенно расширялся, расширялся, и потом я уже забредал столь далеко, что не раз пугался не на шутку, обнаружив себя в нескольких кварталах от дома, в местах настораживающе-незнакомых и романтически-невозможных, как Принцевы острова. Но сначала я освоил нашу улицу, сплошь состоявшую из одноэтажных и двухэтажных бревенчатых домов, одной стороной упиравшуюся в Халтуринскую улицу, а другой — в Преображенский Вал, где было уже настоящее городское движение, попадались даже экскурсионные автобусы, видимо, сбившиеся с маршрута, «опель-адмиралы» с брезентовым верхом и огромные телеги, обитые жестью, которые собирательно назывались — ломовики. На нашей улице стояло кирпичное здание школы, куда меня впоследствии записали восьми лет отроду, детская библиотека, похожая на сельскую, маленькая фабрика, где шили рабочие рукавицы, — больше достопримечательного не было ничего. За Халтуринской улицей открывался довольно большой Черкизовский пруд, из которого вытекала река Хапиловка, грязная и зловонная, почему-то часто вторгавшаяся в мои сны: мне снилось, будто бы я купаюсь в этой самой Хапиловке среди гадов и каракатиц мелового периода, которые норовят меня укусить.
А за Преображенским Валом начиналась настоящая, форменная Москва. Тут уже сплошь стояли огромные каменные дома, проезжая часть была вымощена булыжником, блистал кинотеатр «Орион» с небольшим садом на задах, где еще при нэпе наладили тир и продажу пива, прохаживались милиционеры, которых тогда называли милицейскими, в кубанках и красным шнуром на шее, тянувшимся к тяжелой, толстокожей, коричневой кобуре. С противоположной стороны мир кончался на Метрогородке, где, по-видимому, в тридцатые годы жили строители московской подземки, а за ним начинались гиперборейские просторы, и так до самого острова Сахалин.
Даром что мы считали себя полноправными москвичами, в центр города я в детстве выбирался считанные разы. Каждый раз это было настоящее путешествие, связанное с известным риском, и в пределах Садового Кольца я чувствовал себя первопроходцем и чужаком. Я боялся переходить улицы и ступать на ступеньки эскалатора в метро, пугался клаксонов и прохожих в редких тогда темных очках, меня смущало многолюдство, незнакомые запахи, буйство вечерних огней, невиданные одежды, — словом, в своем родном городе я был сущий провинциал.
Впоследствии моя личная география значительно расширилась и простерлась вплоть до монгольских степей и непролазных снегов канадского острова Ньюфаундленд, но никогда я не испытывал того нервного восторга, как при переезде из своего Черкизова на Арбат. Любопытно, что с годами география стала сужаться, и мне отлично известно, до каких пределов она ужмется в конце концов.
Уже после того как я освоил свой двор, но прежде моих первых вылазок за ворота, мне предоставили свободу передвижения по всему нашему дому — от подвала до чердака. Теперь такие дома можно встретить только в глубокой провинции — двухэтажные, обитые тесом, крытые железом, которое насквозь прогнивало регулярно на каждый десятый год, — а в пору моего детства ими было застроено пол-Москвы. Кроме них по окраинам господствовали строения как бы дачной архитектуры, с башенками, шпилями, верандами, застекленными красным и зеленым стеклом, а также уже упомянутые бараки, по которым ютилась тогдашняя беднота. Кстати заметить, от нынешней бедноты она отличалась тем, что была поразительно многодетна, и того ради собирала по соседям бросовую одежду, ходила в галошах на босу ногу, по праздникам безобразно пьянствовала под гармошку и питалась исключительно селедкой, дешевле которой тогда не было ничего. Что там ни говори, а за последние пятьдесят лет русский люд сказочно разбогател, но в том-то опять же и заключается загадка вообще загадочной нашей жизни, что в Европе мы, как и прежде, беднее всех.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
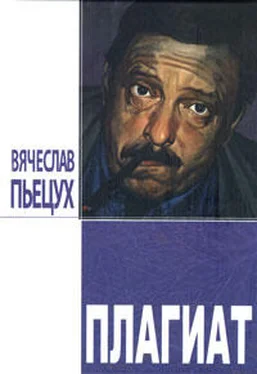


![Вячеслав Шишков - Хреновинка [Шутейные рассказы и повести]](/books/69192/vyacheslav-shishkov-hrenovinka-shutejnye-rasskazy-i-po-thumb.webp)




![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)
