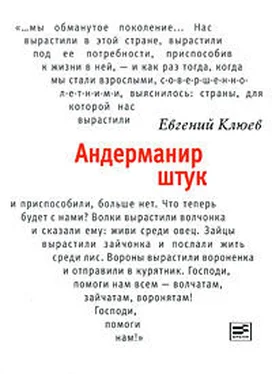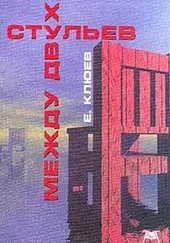Ах, если бы хоть кто-нибудь хоть что-нибудь знал… по крайней мере – какие все-таки конкретно изменения должны было произойти со Львом, в наушниках посаженным на металлический стул, обвешанным датчиками и оставленным в лаборатории на ночь под присмотром Рекса. Или – каким на следующее утро Лев должен был очнуться, что испытать, и было ли бы это тем, чего от него на самом деле хотели добиться. Даже сам Алеша Попович, гений Алеша Попович, протянувший проводки от кожи Льва к щиту на стене, понятия не имел, что побежит по проводкам в подвал и что по тем же проводкам вернется из подвала назад, хотя почти всегда более или менее отчетливо представлял себе результаты нейтрализации… Впрочем, это был первый случай, когда нейтрализация проводилась с кондуктором, всего-то и поприходившим в лабораторию три месяца, в то время как обычно периоды, предшествовавшие нейтрализации, измерялись годами.
Если бы хоть кто-нибудь хоть что-нибудь знал!
Но никто не знал ничего. Никто в этой стране никогда ничего не знал.
А само событие в конце концов рассыпалось в прах. Те немногие, кто был в курсе, больше не встречались. Мордвинов тут же подал в отставку. Коля Петров принял на себя заведование институтом. Владлен Семенович загулял на больничном. Алеша Попович, вроде бы, пришел на работу как ни в чем не бывало… да ничего и не бывало: такого вообще не бывает.
– И тебя бы тоже могло уже не быть.
Так говорил дед Антонио, словно какой-нибудь Заратустра.
– Я думал, я смогу держать ситуацию под контролем, деда! Кто ж знал, что там транквилизаторы.
– Везде транквилизаторы, Лев, вся страна на транквилизаторах – на снотворном, на успокоительном, на «Лебедином озере», на телевидении, на газетах… понимать бы тебе! Ты спишь, Лев, с открытыми глазами спишь. Ох, Господи-помилуй… я уж думал все, конец. Ты мне скажи, ты почему со мной не говорил в тот вечер?
– Ты прямо как тамагочи! – рассмеялся Лев. – Не поговоришь с тобой один вечер – капризничать начинаешь!
– Я и есть тамагочи, – серьезнее не бывает сказал дед Антонио. – Принцип тот же: не обращаешься ко мне – улечу на другую планету. Да и все мы тамагочи, Лев… чахнем от невнимания.
– Я знаю, – тихо сказал Лев. – Знаю. Только… я один на один с ними хотел, деда! Я на честный бой шел, я правды добивался, что с Крутицким случилось, почему Устинов из больницы не вылезает! Про исследования-то давным-давно все понятно было, а вот про последствия этих исследований…
– На честный бой шел! – усмехнулся дед Антонио. – Что ты знаешь о честных боях! Честных боев не бывает. Никакой «честный бой» не честный, поскольку у одного из противников всегда есть тайное преимущество. А потом, это же не твой бой Лев! Если бы ты хоть практиковал то, что умеешь…
– Но это нельзя практиковать, деда! Я… я, вот, живу свою жизнь – свою, в общем-то, тихую совсем жизнь, свою нарочно тихую жизнь, потому что я ведь знаю теперь, какие-то такие силы есть во мне. Только оно – то, что во мне есть, – оно такое большое, деда! Такое большое, такое смутное, такое, неизвестное. Оно, может быть, даже страшное. Ты ведь знаешь про зеркала, деда. Ты ведь единственный, кому я рассказал! Не ты ли ответил мне: «Вот теперь все уже по-настоящему жутко»? И я помнил эти слова – помнил их, когда уходил из того дома на 4-ой Брестской, которому я уже назначил: не быть. Так что в одном я теперь окончательно уверен: это нельзя практиковать! Не только мне – вообще никому. И я никогда не буду – практиковать. Даже в ответ на то, что почти все остальные – практикуют. Сам Устинов практикует – уже одним тем, что преподает. Говорить, кстати, – это тоже практиковать: создавать вербальную действительность и заставлять других жить в ней. Я не практикую, деда.
– А не практикуешь – так чего ж тогда, – соваться тогда чего! Верная просто погибель!
– Так я ведь под присмотром, деда!
– Моим, то есть?
– И твоим! Но очень надеюсь, что не только твоим. Да, все еще надеюсь, хотя – зеркала, зеркала, зеркала! А потому надеюсь, что под присмотром все, кто не практикует: именно они-то и под присмотром.
– Ты это чувствуешь?
– Скорее, наблюдаю, наблюдал. В цирке наблюдал. Там нет присмотра. Там все практикуют – на пределе человеческих возможностей. Но только на самих себя и рассчитывают: со-смертью-играю-смел-и-дерзок-мой-трюк! Зрители ведь на это острое ощущение и ходят: а вдруг уже сегодня разобьется? Я всегда цирка боялся. И тебя, когда ты Антонио Феери, боялся.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу