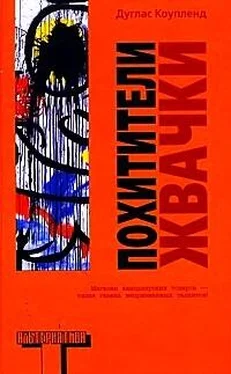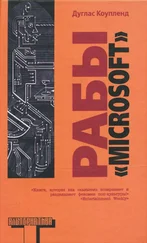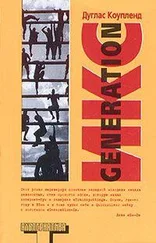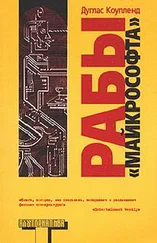Под морскими обезьянками стоит подвести черту. Я вообще люблю подводить черту, определять границы допустимого, поэтому окружающим со мной нелегко. Взять хотя бы людей, которые становятся подальше от тебя в очереди к банкомату. Нарочно отходят на пятьдесят футов, лишь бы ты не подумал, будто они пытаются увидеть твой пин-код. Смотрю я на таких типов и думаю: «Да ты, видно, серьезно в чем-то напортачил, раз выставляешь свое чувство вины напоказ!» Обычно я просто обхожу их и встаю к банкомату первым. Так им и надо.
Что еще? Если человек едет позади тебя на шоссе и сигналит фарами, чтобы ты съехал на крайнюю правую полосу, то он заслуживает самой жестокой кары. Я обычно тут же сбрасываю скорость и продолжаю ехать по своей полосе – наказываю Спиди-гонщика за наглость.
Даже не за наглость, а за то, что он дал людям понять, чего хочет.
Спиди-гонщик, друг мой, никогда не показывай людям, чего ты хочешь. Это все равно что послать им открытку с надписью: «Пожалуйста, не дайте мне этого сделать».
Цинично.
Но я не циник.
А пусть даже и так. По крайней мере циник всегда знает свое место.
Нет, последнее предложение вышло неладно. Перефразирую: по крайней мере циник знает, что ничем не отличается от других.
Опять мимо. Тогда еще попытка: по крайней мере циник знает, что он – просто человек. Что он стареет и теряет лоск, зато его жизненный опыт универсален. «Универсальный» – отличное слово. Циник отдает себе отчет, что живет в мире стареющих чудаковатых циников, которым в душе всегда тридцать два.
Он неудачник.
Хотя далеко не все циники – неудачники. Почти все мои знакомые богатеи тоже циничны. Это универсальное качество. Ликуйте!
Когда я был молод и глуп, я решил написать роман. Он должен был называться «Шелковый пруд». Здорово, правда? Похоже на название английского романа или фильма – например, «Под сенью молочного леса» Дилана Томаса – или пьесы Теннесси Уильямса. Героями «Шелкового пруда» должны были стать персонажи вроде Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона, кинозвезды позапрошлого поколения, страдающие алкоголизмом и истерической сексуальностью, с мягкими чертами и расплывчатыми формами – тогда публика еще не знала, что чувственность актера определяется его мышечным тонусом, а не пресс-релизом. Мои герои кричали, визжали, злобно и колко бранились. Они пили как сапожники, трахались как кролики, а потом заставали друг друга в постели с другими (с которыми тоже трахались как кролики). В эти минуты они так и сыпали остроумной бранью. Персонажи «Шелкового пруда» буквально генерировали колкости. В конце концов все они сходили с ума, а человечество было обречено на скорую гибель. Занавес.
Я вбил сочетание «Шелковый пруд» в поисковик и не нашел ни одного совпадения.
Подумать только: никто и никогда не ставил эти два слова вместе. Так что хрен я кому отдам свой «Шелковый пруд»!
Я – та самая мертвая девочка, на чей школьный шкафчик вы плевали на большой перемене.
Я не совсем мертвая, но одеваюсь так, будто очень хочу умереть. У таких, как я, много общего: мы все ненавидим солнце, носим черное и чувствуем себя запертыми в собственном теле. Я постоянно хочу умереть. Даже не верится, что я застряла – в этой плоти, в этом месте и с этими людьми. Ну почему я не призрак?
К вашему сведению, я уже окончила школу, но на мой шкафчик действительно плевали; такое запоминается на всю жизнь и в каком-то смысле ее обобщает. Я работаю в «Скрепках» и отвечаю за отделы 2-Север и 2-Юг: за файлы, папки, блокноты, разделители, стикеры, цветную бумагу с орнаментом… Ненавижу ли я свою работу? Рехнулись?! Конечно, я ее ненавижу! Разве может быть иначе? Все мои сослуживцы либо уже ущербные, либо вот-вот ими станут: эдакие эмбрионы ущербности, которые тормозят, как модем девяносто девятого года выпуска. Очнитесь! Даже если вы благополучно появились на свет и окончили среднюю школу, общество еще может сделать аборт и выбросить вас на помойку.
Теперь позвольте мне сказать что-нибудь хорошее. Для гармонии.
В «Скрепках» мне разрешают красить губы черной помадой.
Сегодня утром я ждала автобус и увидела на азалии возле остановки воробья. Он зевнул… Легчайшее дуновение теплого воробьиного зевка поднялось с ветки, и – удивительно – я тоже начала зевать. Выходит, зевота передается не только от человека к человеку, но и от вида к виду. Когда наши первобытные предки разошлись в двух направлениях: одни – чтобы стать млекопитающими, другие – птицами? Пятьсот миллионов лет назад? Выходит, на Земле зевают уже полмиллиарда лет.
Читать дальше