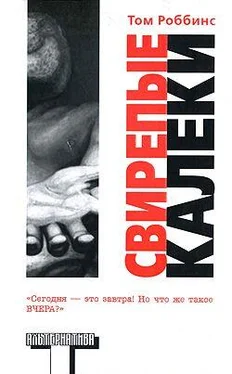– В свирепого калеку, – поправил ее Свиттерс.
– Я-то, глупая, всегда считала тебя одним из последних факельщиков и знаменосцев – а выясняется, как ни печально, ты и спичку на эскалаторе зажечь не в состоянии.
– Стало быть, ты хочешь, чтобы я встал? – спросил уязвленный Свиттерс.
– Что такое?
– Зная все то, что ты уже знаешь про Смайта, ну, антрополога, и что с ним произошло, ты в самом деле хочешь, чтобы я встал и пошел? Потому что я ж послушаюсь. Прямо сейчас. Вот сей момент. Ты только скажи. – И Свиттерс приподнялся в кресле.
Но произнести решающее слово Маэстра не смогла. Или не пожелала. Она величаво удалилась прочь – и возвратилась десятью минутами позже, чтобы отчитать внука за то, что тот так покорно смирился со своим увольнением из ЦРУ, даже не потребовав, чтобы его выслушали.
– По меньшей мере ты мог бы рассчитывать на пенсию по нетрудоспособности в связи с душевным расстройством.
Хоть ты и чокнулся, они все же многим тебе обязаны. Ты столько раз рисковал ради них жизнью!
– Никогда.
– Еще как рисковал!
– Нет. Жизнью я, возможно, и рисковал – но только не ради них. А ради… чего-то другого.
– Чего? Если конкретно.
– Конкретике здесь вообще не место.
– Хе!
Свиттерс не шутил. И вовсе не пытался намеренно уйти от ответа. Свою профессиональную жизнь он строил точно так же, как любил женщин: отдаваясь этому занятию целиком и полностью, романтически, поэтически, одержимый тоской по недостижимому и непознанному, вливая в себя – а также в свою партнершу или свою миссию – тот таинственного происхождения концентрат восторга, что сам порой называл своим «сиропом «Bay!», – некий экстракт эмоций, порожденный выпариванием смеси из красоты, риска, буйства и радости. Иллюзорен таковой или нет – бог весть, но вот конкретике здесь точно не место.
Когда Свиттерс снял комнату в старом доме рядом с рынком Пайк-плейс (он подумывал о том, чтобы перебраться в коттеджик на Снокуалми, но в горах уже выпал глубокий снег), как Маэстра, так и Бобби Кейс долго его допрашивали, чем он там намерен заняться.
– Пока что моя цель – положить конец утечке кислорода из моей жизни, – ответствовал он, но ни одну, ни другого такой ответ не удовлетворил. Так что Свиттерс намекнул, что, возможно, уйдет в научно-исследовательский загул.
Пока Свиттерс помогал Сюзи с сочинением, попутно отряхивая от пыли и смазывая свои скрипучие академические рефлексы, он преисполнился убеждения, что диссертацию, отделяющую его от научной степени доктора философии – сам курс как таковой он прослушал давным-давно, – написать окажется вовсе не настолько мучительно сложно.
– Как тебе понравится называть меня доктором Свиттерсом? – полюбопытствовал он.
– Черт, я, чего доброго, собьюсь и стану звать тебя доктором Сеуссом, [141]– не задержался с ответом Бобби.
– Твое счастье, что я не зову тебя Симпомпончиком, – отрезала Маэстра.
Бобби, ненадолго заглянувший к ним на День Благодарения, вежливо слушал, как Свиттерс соловьем разливался о будущем мира при «киберкультуре».
– Со времен изобретения алфавита, если не ранее, любые технологии брали начало в языке, но в киберпространстве мы не столько видим и слышим информацию, сколько ее чувствуем. Похоже, что технология наконец-то опережает язык, не просто выпархивает из гнезда, но еще и родительницу приканчивает, фигурально выражаясь. Видишь ли, на самом-то деле мы не видим ни тьмы, ни даже света – мы лишь неврологически ощущаем их воздействие на окружающие поверхности. Система двоичного исчисления – Братец Единица, Сестрица Нол, – благодаря которой стали возможны компьютеры, – сама по себе некое взаимодействие света и тьмы, а когда вводишь электрон, а не слово, в качестве первичного информационного звена между мозгом и внешним миром…
И так далее, и тому подобное. У Бобби осталось впечатление, что Свиттерс вовсе не считает, будто язык как таковой обречен; нет, скорее он трансформируется, как при изобретении финикийского алфавита; обретет свободу, как при изобретении греческого алфавита, и, наконец, будет прославлен и превознесен, как с приходом латиницы; однако ж Кейса не оставляло подозрение, что тот тем не менее склонен защищать слова – причем желательно те, что постраннее, поархаичнее, – видя в них ключи к некоему утраченному сокровищу. Все это в основе своей страшно интересно, но Свиттерс, стоило ему «включиться», обычно так и несся сломя голову вниз по склону – и на полной скорости опрокидывался в кювет. Например: «А на самом-то деле наша космология – тоже двоичная система, нет? Господь равен единице, Сатана равен нулю. Или наоборот? Как бы то ни было, мы используем только эту пару цифр – воздерживаясь от чисел с двух до девяти включительно, – и бесчисленные комбинации таковых, – просчитывая смысл жизни и нашу конечную судьбу. Ах, но ведь в начале было слово. Еще до деления, до…»
Читать дальше