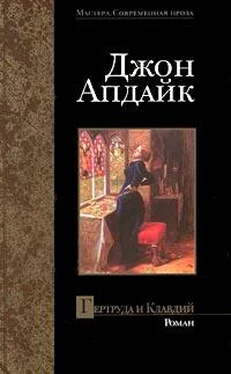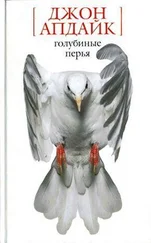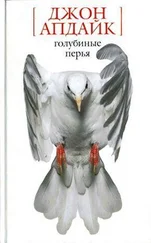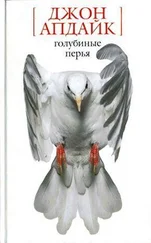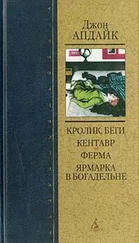Фенгон понял, что на этот раз она не дарует ему ничего сверх этого ультиматума, и откланялся. Сандро не ожидал, что он удалится так рано и уйдет по коридору через комнату с очагами: во всяком случае, он в растерянности обернулся, оторвавшись от своего разговора с Гердой. Она была вдвое его старше, но сохраняла следы миловидности. Они пристроились над чашами с горячим сидром у центрального пласта тлеющих углей и сочиняли собственный язык — Сандро восполнял свои пробелы в датском гибкими жестами, заставлявшими ее моргать.
— Una regina, — сказал ему Фенгон в ответ на его вопросительный взгляд, когда они отправились обратно, — non е una gallina [8].
* * *
Неделю спустя, когда почки на кленах и ольхе из плотных пуговичек развернулись в многолистиковые подобия миниатюрных кочанов капусты, он привез свой первый подарок: кулон из перегородчатой эмали в форме павлина — развернутый веер хвоста, в середине которого на гордом фоне зеленых перьев с желто-черными глазками выделялись мерцающие синевой шея и голова. Каждый сегмент эмали был обведен золотой чертой тоньше самой тонкой нити — даже самые крохотные кусочки, белые и красные, зеленые и серые, складывавшиеся в повернутую вбок голову с загнутым книзу клювом. Создатель такой изящной вещицы должен был неминуемо ослепнуть — и скоро. Его слепота была частью ее стоимости.
— Ты всегда даришь мне птиц, — сказала Геруте и тут же вспомнила, что первый такой подарок, пару коноплянок, ей сделал Горвендил.
— Павлин, — объяснил он, — у них символизирует бессмертие. Эти птицы бродят чуть ли не во всех дворах, волоча в пыли свои длинные перья, вытягивая радужно переливающиеся шеи, чтобы испустить режущий ухо крик, более подходящий для души, терзаемой в аду, чем для эмблемы Рая.
— Такой красивый и тяжелый! — Она подняла кулон вместе с золотой цепочкой, пролившейся на ее розовую ладонь, точно струйка воды.
— Проверь, каким он окажется у тебя на шее. Могу я надеть его на тебя?
Геруте поколебалась. Потом наклонила голову и разрешила ему эту вольность. И его пальцы погладили ее волосы, такие тонкие и светлые у шеи, где его пальцы возились с застежкой цепочки. Его губы, малиновые, красиво очерченные, приблизились к ее глазам на ширину ладони, пока он нащупывал крючочек. А нащупав, опустил руки, но его рот не вернулся на прежнее место. Каждый черный волосок его усов поблескивал, будто эмаль. Перышко его дыхания, пахнущего заморской гвоздикой, щекотало ей ноздри. Она подняла палец, чтобы коснуться бахромки над его губами в желании зеркально воссоздать там щекотку, которую ощущала на шее. Вес кулона лежал там прохладной полосочкой. Два их тела совсем рядом она ощущала как гигантские, словно сложенные из крохотных вращающихся микрокосмосов, в которых каждая частичка, каждое волоконце столь же бесценны, как эмалевые кусочки, слагающиеся в бессмертного павлина. Прохлада толкнула ее искать теплоты его губ, там, куда едва прикоснулись кончики ее пальцев.
Она и Фенгон поцеловались, но не так жадно, не так влажно, как тогда, в Эльсиноре. Здесь, в их собственном, несравненно более скромном замке, они более опасливо делали шажки вперед вдали от отеческой защиты короля, пытаясь одомашнить вопиющее беззаконие, которое замыслили их тела. Геруте больнее ощущала свою вину, ее-то ведь связывали узы брака, — и все же в ней поднялось былое возмущение, чтобы встретить и подавить укоры совести, пока длился этот поцелуй, и несколько его менее скоропалительных, более практичных преемников, пока, измученная этой внутренней революцией, она не отодвинулась и не попросила Фенгона рассказать еще что-нибудь.
Однако Византия, да и вся Европа к югу от Шлезвига, с каждым днем в Дании стирались в его памяти, и его путешествия уже казались ему нетерпеливостью, чуждой флегматичным датчанам, обоюдоострой твердостью внутри него, выжидающей, как меч в ножнах. Геруте сосредоточилась на том, чтобы выманить наружу прошлое его юных лет — детство в Ютландии, первые набеги под водительством Горвендила, лоскутное образование, исчерпавшееся зубрежкой под надзором священников, — а затем заговорила о себе, весело, с беззаботной откровенностью вспоминая свои обиды на отца, мужа и сына так, будто все они были эпизодами в забавной истории какой-то другой женщины. Фенгон расслышал в ее веселости новую решимость идти вперед с собственной упругой твердостью. Она, казалось ему, пьянела от предвкушения и крепилась не чувствовать себя виноватой.
Читать дальше