Девушка открыла ему дверь, он вошел в кабинет Ерохина со смешанным чувством почтительности, приятного подобострастия и сдержанной злобной решительности, готовой вырваться из него в любую минуту.
* * *
Бывший комиссар Шестой, сражавшейся на Севере самойловской армии, ныне секретарь укома Нил Афанасьевич Ерохин, поджарый, жилистый, носил военную форму. Он давно позабыл про свой возраст, лет своих не считал, зато хорошо помнил, сколько раз сам бывал за чертой, сколько буржуев и контриков отправлено за эту черту. Он не любил кабинетную бумажную жизнь и все еще был как на фронте. Там, на прохладной, кровью вскипавшей Двине, под Шенкурском, все было легче и проще. Рази и пали во вражье сердце, иди и рази интервенцию, если не хочешь на остров смерти Мудьюг. Тут уж, как он говорил, кто кого. Теперь все было не то и как-то невесело. Но Ерохин был не из тех, чья кровь закисает при первой оттепели. Он по-прежнему носил защитную, с глухим воротом гимнастерку, не расставался с командирской сумкой и биноклем. Ерохин был холост и ночевал то в кабинете, то в дальней деревне. А то и под одиноким стожком, в лесу, привязав за повод к сапогу запаленного укомовского жеребчика.
Уезд был велик, а Ерохин был один. Только теперь он начал понимать себе цену. Он появлялся в волостях всегда неожиданно, словно осенний ветер: весь в ремнях, с биноклем и полевой сумкой на левом, с наганом на правом боку. Ерохин осаживал жеребца около какого-нибудь зазевавшегося мальчонки и при его помощи вызывал на улицу первого жителя. Тот бежал искать местного активиста, и уже через полчаса мужики, бабы и ребятишки слушали горячую речь о мировой революции. Секретарь плавно подходил к республике и губернии, затем к уезду и волости и наконец к деревне, к отдельным ее жителям, к каждому лично. Он держал в голове сотни имен, фамилий, знал, кого надо брать лаской, кого угрозой, кого назвать по имени — отчеству, а кого и просто по прозвищу…
…Игнатий Сопронов зашел в кабинет, с угрюмой решительностью взглянул на секретаря. Ерохин встал и через стол, за руку, поздоровался.
— Садись.
Сопронов сел, намереваясь тотчас высказать свою просьбу. Ведь его никто не вызывал в уком. Он пришел сюда сам, чтобы посоветоваться насчет работы и будущей жизни. Однако Ерохин заговорил первым:
— Дайте мне ваш партбилет, Игнатий Павлович.
Сопронов отогнул борт бумажного старого своего пиджака, зубами выдернул нитку на зашитом внутреннем кармане, достал завернутый в коленкор партбилет. Бережно развернул и подал Ерохину.
— Так. — Секретарь долго разглядывал партбилет. — Так, так, Сопронов. Ты почему без разрешения уехал из Ольховицы?
Сопронова взорвало, но, сдержавшись, он сказал:
— Как это без разрешения? Я докладывал Меерсону устно и письменно.
— Почему уехал? Куда?
— Уехал на лесозаготовку. — Сопронов назвал место. — А почему, каждому ясно. Мне тоже надо кормиться, я не святой Антоний.
— Так, так. — Казалось, что голос секретаря отмяк и в серых, пронзительно-быстрых глазах засветилось добродушие. — Вы, товарищ Сопронов, четыре месяца не платили взносы.
— В лесопункте не имелось ячейки. В пароходстве я заходил к начальству, там сказали, где стоишь на учете, там и плати.
— Ты что, устава не знаешь? — вдруг крикнул Ерохин. — Партбилета не получишь как механически выбывший.
— Товарищ Ерохин!
— Все! Можешь идти. — Ерохин встал, кинул партбилет в сейф, захлопнул дверцу и повернул ключ.
Сопронов похолодел. Обида, усталость, скопленная за бродячие месяцы, и боль, и какая-то новая, еще не изведанная жалость к жене, к брату Сельке и отцу в один миг свились в один ком и остановились в сдавленном горле. Глаза Сопронова, не подчиняясь рассудку, точили плоский, бывший когда-то купеческим сейф и почему-то то и дело перекидывались с места на место, ища чего-то. Они остановились на тяжелом медном письменном приборе, изображавшем какие-то массивные башни. Он с трудом погасил в себе позыв схватить этот прибор и изо всей силы шарахнуть им в ерохинское лицо.
— Идите, товарищ Сопронов! Такие члены в партии не нужны.
Сопронов повел онемевшими плечами и, потрясенный, скрипнул зубами. Сжав кулаки, он поднялся было вперед и вдруг сразу обмяк, плечи его обвисли, и он, медленно повернувшись, пошел к дверям. В оцепенении вышел он в коридор и взял котомку. Он не помнил, как очутился на жарком укомовском дворе и как ступил на траву.
Горячие камни единственной в городе мощеной улицы, горячие железные крыши домов и нагретые солнцем прутья садовых решеток — все исходило жарою и горьким зноем, как исходила зноем задыхающаяся душа Игнатия Сопронова. Ноги в полыхающих жарой сапогах тоже горели, сопревшие вконец портянки прели вместе с кожей и мясом. Голова разламывалась от боли. В руках и ногах растекалось опустошающее бессилие. Сопронову ничего не хотелось.
Читать дальше



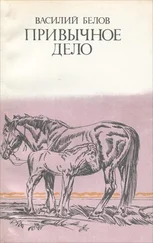

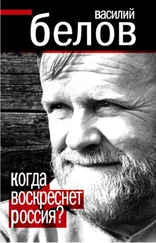
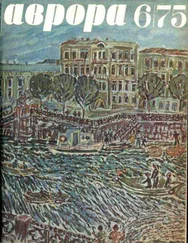

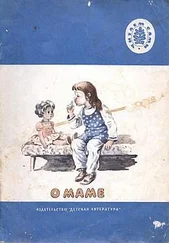

![Василий Белов - Волшебное слово [Сказки]](/books/393402/vasilij-belov-volshebnoe-slovo-skazki-thumb.webp)
