Крайне важно было убедить Таллента, чтобы он разрешил нам увезти с острова нескольких сновидцев, и, к моему удивлению, он согласился без особых споров. Естественно, прозвучала обширная лекция об опасностях перемещения туземцев из их среды и крайне малой вероятности их благополучной ассимиляции обратно в свое общество, но его аргументы казались слегка блеклыми, не говоря уж об их абсурдности. Если я прав, скоро у них не останется никакого представления об окружающем мире, а их собственное общество их уже отвергло, так почему бы не взять их с собой?
– Ну, – сказал он наконец неуверенно, – надо хотя бы попросить разрешения у вождя.
Вождю, разумеется, было все равно. Наше предложение его даже слегка порадовало, хотя, как я уже говорил, он вообще был крайне сдержан. Но отчего бы ему не радоваться? Мы предлагали увезти с собой четверых бесполезных мо’о куа’ау, а без них на острове четыре человека не будут больше ловить вуак и искать манамы, четыре человека никогда не набредут в своих бесконечных странствиях на деревню.
Но тут вождь спросил:
– А остальные?
– В каком смысле? – ответил Таллент.
– Их нельзя здесь оставлять, – сказал вождь.
Таллент открыл рот и снова закрыл. Ему ничего не оставалось.
– Мы их тоже увезем, – сказал он, и вождь кивнул в ответ.
Потом он повернулся и ушел. Не знаю почему – из-за кинофильмов, возможно, или из-за легенд – я ожидал какого-то более растянутого прощания, обмена дарами, или, может быть, церемонии, особенно с учетом пристрастия этой культуры к церемониям. Но ничего такого не было – только удаляющаяся от нас спина вождя и копыта его вепря, которые с каждым шагом поднимали небольшие сполохи пыли. Мне подумалось, что ритуала прощания не было, потому что не было никаких гостей: сюда никто никогда не приходил, и никто – кроме мо’о куа’ау – отсюда не уходил.
Тут я кое-что вспомнил.
– Постойте, – сказал я Талленту, – позовите его назад на минуту.
И Таллент окликнул вождя, который развернулся и очень неохотно направился в нашу сторону.
– Ке, – бесстрастно сказал он. Что?
– Спросите его, – велел я Талленту, – знает ли он кого-нибудь, кто отпраздновал вака’ину и не стал мо’о куа’ау?
Было видно, что вождь не хочет отвечать. Не только потому, что тема его утомила, – ответ означал также и признание собственной судьбы. До этого момента он мог избегать вопроса, воображать – как наверняка делал до него любой шестидесятилетний человек и как будет делать любой после него, – что он может оказаться первым: в своих мечтах он всегда оставался вождем, каждые несколько лет пировал на вака’ине очередного соплеменника, его жены, дети, внуки и правнуки следовали за ним чередой, хижина с мясом никогда не пустела, хижина с пальмовыми листьями всегда пополнялась. Он станет таким старым, что поучаствует в а’ина’ине собственного прапрапраправнука, таким старым, что увидит, как этот мальчик вырастет и будет участвовать в а’ина’ине собственного внука. Он будет так стар, что мелкие побеги манамы по краю деревни вырастут, созреют, отомрут и снова сменятся, так стар, что когда-нибудь станет таким же старым, как сами боги, так стар, что в один прекрасный день они, А’ака и Иву’иву, откроются ему, и, может быть, когда-нибудь он станет третьим в их союзе, получит собственный предел, которым будет управлять. У звезд, дождей, ветров, вод и солнца есть свои опекуны, но может быть, что-то будет отдано ему – может быть, деревья, или цветы, или птицы, которые цепляются когтями за высокие ветки над его головой. Так ему представлялось днем. Неудивительно, что он часто казался заспанным, пресыщенным – эти видения наполняли его, и они были прекрасны, они услаждали и очаровывали сердце, и к ним можно было обратиться всегда, стоило ему только захотеть.
Но по ночам к нему приходили другие видения. О том, что в некий день его отведут в лес, и он, возможно, будет так растерян, что уже не вспомнит, как некогда был вождем, как у него был страшный до дрожи вепрь, который следовал за ним везде, как оруженосец. Как у него отнимет копье, возможно, тот самый внук, которого он посвящал на а’ина’ине. Как он станет бродить по лесу день за днем, слышать крики птиц и мартышек над своей головой и не вспомнит, как их ловить, не вспомнит даже, как это было легко когда-то, или, хуже того, будет мучиться полупамятью, которая тянет за край сознания, напоминает о чем-то, что он почти помнит, но не помнит. Как он увидит у своих ступней розоватый плод с червями, которые выбираются из него, как волосы Медузы, и не вспомнит, что плод съедобный, что когда-то он такие любил, больше того – мог поедать дюжинами. Что ему нравились сушеные плоды, с тонкими и ломкими от закристаллизованного сахара краями или растертые в пасту и выложенные на кусок ленивцевого мяса, чтобы сладкое перетекало в соленое. Как он будет одинок там, куда некогда отвел шестьдесят пять других, как день будет переходить в ночь, а потом снова в день, но ничто не будет отмечать ход времени – ни церемонии, ни празднования, ни песнопения, ни соития, ни охота, только его собственная тускнеющая значимость для него самого, которая потускнеет так тихо и мягко, что он этого даже не заметит. Это и были правдивые видения, и он это знал. Поэтому он цеплялся за дневной свет, когда он владеет собственным рассудком и заодно всем остальным. Я понял в это мгновение, какой стойкостью и смелостью надо было обладать, чтобы терпеть сновидцев рядом с собой, знать, что каждый из них доказывает неизбежность его ночных видений и ложность видений дневных.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
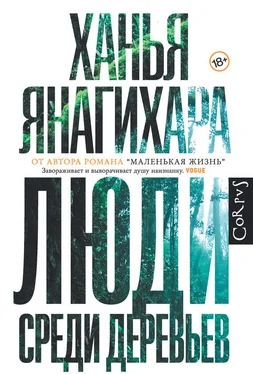



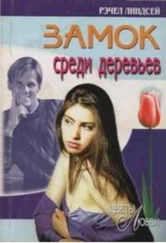


![Виктор Тюрин - Смерти вопреки - Чужой среди своих. Свой среди чужих. Ангел с железными крыльями. Цепной пёс самодержавия [сборник litres]](/books/430290/viktor-tyurin-smerti-vopreki-chuzhoj-sredi-svoih-sv-thumb.webp)



