Вот, стало быть, оно. Вот то дерево, вот где Фа’а видел своих не-людей, вот к чему привели дни нашего пути. Но это свершение почти сразу оказалось под угрозой – мне стало очевидно, что осмысленного плана у нас нет. Наверняка, с некоторым надрывом думал я, план был как следует продуман? Мы что, должны просто стоять у этого дерева и ждать, словно дети в сказке, этих предполагаемых полулюдей, которые появятся перед нами, как ходячие видения? Мне представилось, как мы все скопом разворачиваемся и направляемся вниз через заросли джунглей, снова погружаясь в их влажные, липкие объятия, до самого океана, а потом – что потом? Мы как-то вернемся на У’иву, потом Эсме и Таллент поедут в Калифорнию, а я – в никуда. Я вдруг почувствовал себя таким же потерянным, как в доме у Смайта, и с горечью задумался, когда же я смогу уже с уверенностью сказать, морок меня окружает или просто неудачные обстоятельства.
Наконец, после долгого разговора с Фа’а, Таллент объявил, что мы остановимся здесь на ночь и двинемся дальше наутро. Ни Эсме, ни я не задали ему никаких вопросов – наверное, мы оба боялись услышать ответ, и, кроме того, ни один из нас ему обычно не перечил, – нет, мы послушно разложили свои вещи на траве. Помнится, в его голосе звучала пораженческая нота, и это вызвало у меня парадоксальное удовлетворение, хотя по большому счету следовало встревожиться: нас привело сюда, как он сам признавался, его предчувствие, и без Таллента я выходил просто глупым и безрассудным юнцом, который застрял в лесу, наполненном исключительно безумцами и мифами.
В ту ночь мне, как всегда, снились сны, но то ли из-за возвращения солнечных лучей в период бодрствования, то ли из-за того, что я все еще упорно цеплялся за ошибочное представление, будто мне удалось дойти до какого-то важного предела, то ли, может быть, из-за странных плодов манамы, которые плюхались, как пушечные ядра, разбивая ночь нестройным шумом, в моих видениях явились приземленные вещи, череда всего милого, привычного и такого непримечательного, что мне в голову не приходило об этом скучать: простой кожаный ботинок, который я когда-то носил, с крошащимся дерном на подошве; вяз, росший возле нашего дома, в котором как будто отражалось все благородное и величественное; рубашка, которую когда-то носил мой отец и ее голубая хлопковая ткань выцвела почти до белизны… и Оуэн, чье лицо плавало, подобно планете, на чешуйчатом шелковисто-черном фоне с выражением непонятным, но, догадывался я, исполненным жалости.
Но кого же он жалеет, думал я даже во сне.
Меня?
На следующий день мы проснулись, позавтракали и остались сидеть. Точнее, мы с Эсме и Таллентом остались сидеть, а проводники куда-то уковыляли. Становилось очевидно, что за неимением плана нам придется сидеть и ждать, как собакам, пока какое-нибудь событие само на нас не набредет.
Кто знает, как долго мы сидели. Несколько часов, безусловно, но сколько? Мы постоянно слышали, как перекликаются и бродят вдали проводники, и между потаенными взглядами в сторону Таллента (который писал яростнее, чем обычно, – о чем, хотелось мне спросить, ведь насколько я мог оценить, ничего антропологически интересного до сих пор не случилось) и стараниями не смотреть в сторону Эсме я лежал на спине и пытался сосчитать стебли какого-то ползучего растения (волокнистого, словно бы запыленного на вид), закрутившиеся в узлы на одной из нависавших сверху веток манамы. Вспоминать тот день мне до сих пор поневоле немножко стыдно. Боюсь, с молодыми людьми приключения пропадают зря. Мне стоило бы изучать окрестности, ползать в зарослях (намного более доступных и приятных, чем пару дней назад), бродить по лесу в поисках неописанной растительности (сейчас мне физически больно вспоминать, сколько трав, папоротников, цветов, деревьев я никогда раньше в жизни не видел и мог бы отмечать весь световой день), даже пытаться ходить за проводниками по их малопонятным и сосредоточенным маршрутам. Вместо этого я лежал на спине и считал лианы. Лианы! Я всю жизнь гордился своим любопытством, своей, как мне казалось, неутолимой интеллектуальной жаждой. И при этом, оказавшись в ситуации, когда почти все вокруг было чуждым, я ничего не делал, ничего не видел.
Когда в молодости тебя заносит в необычное место, ты предполагаешь, что это неизбежно произойдет еще раз и когда-нибудь потом ты снова окажешься в странной и экзотической обстановке. Но такое происходит очень редко. Большая часть из того, что мы наблюдаем в ближнем окружении, на самом деле повторяется в других частях света с унылой точностью: птицы, звери, плоды, небо, люди. Они могут выглядеть по-разному в разных местах, но их базовое поведение, в сущности, одинаково: птицы поют и порхают, звери крадутся и мычат, плоды бесчувственны и неодушевленны, небо наполняется облаками и звездами и пустеет, люди носят одежду, убивают, едят и умирают. На Иву’иву, как мне приходилось наблюдать множество раз, все эти вещи происходили не так, как можно было ожидать, но я был слишком неопытен, чтобы осознать, насколько это необычно. (Оглядываясь назад, я думаю, что Таллент, может быть, осознавал это. Может быть, именно этим он постоянно заполнял свой блокнот: вовсе не антропологическими наблюдениями, а описанием неизбывной странности места.) Только старики могут оглядываться и изумляться, потому что мы знаем, как однообразен на самом деле мир, как все его проблемы и чудеса уже опознаны и описаны.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
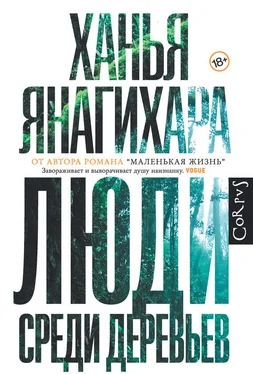



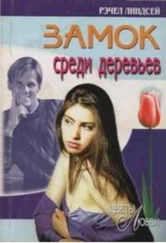


![Виктор Тюрин - Смерти вопреки - Чужой среди своих. Свой среди чужих. Ангел с железными крыльями. Цепной пёс самодержавия [сборник litres]](/books/430290/viktor-tyurin-smerti-vopreki-chuzhoj-sredi-svoih-sv-thumb.webp)



