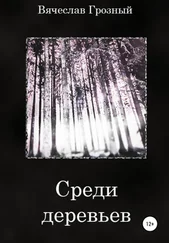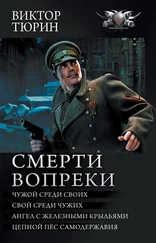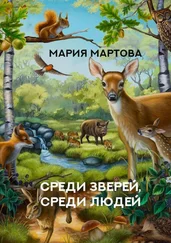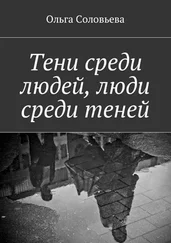Помимо Грипшоу, как предполагает Хетерингтон, Нортона могла финансировать, как он сам выражается, «какая-то таинственная нелегальная касса», которая поддерживала правительственное агентство, заинтересованное в разработке новых лекарственных средств. На первый взгляд кажется, что такое предположение полностью основано на авантюрах в духе плаща и шпаги, но это не совсем так. Ведь речь о 1950 годе, всего пять лет назад окончилась мировая война, и в тот момент огромные деньги направлялись не только в младенческую еще область вирусологии, но и на самую раннюю стадию разработки биологического оружия. Абсолютно не исключено, что Стэнфорд был одним из университетов, выделивших грант на подобного рода исследования и эксперименты, а Нортон оказался его достойным получателем. (Кэтрин Хетерингтон, «Истинный маленький остров», Нью-Йорк, «Пантеон», 1992, стр. 205–218)
Нортон между тем был занят рядом внепрограммных дел, самым важным из которых оказалась статья, опубликованная в апреле 1951 года в «Анналах герпетологии», где он описывает опа’иву’экэ как ранее не известную морскую и пресноводную черепаху. Это краткая, но на удивление симпатичная статья, она свидетельствует, что Нортон тоже подробно фиксировал происходящее на острове; его описание деятельности и поведения опа’иву’экэ (ныне официально известной как Chelonia perinia ) цитировалось в последующие десятилетия бесконечное количество раз. Помимо удовлетворения от открытия и наименования нового вида, эта статья также заложила необходимое основание для другой будущей статьи Нортона, знаменитого «Утверждения о бессмертии», опубликованного им почти два года спустя.
Статья по герпетологии привлекла большое внимание к Нортону в зоологических кругах, и на протяжении некоторого недолгого времени он даже думал сконцентрироваться на этой области; единственное, что его остановило, как он позже понял, – полное отсутствие страстного интереса к рептилиям. Впрочем, заметкой Нортона не все были довольны; в своих мемуарах Дафф утверждает, что истинными первооткрывателями опа’иву’экэ были они с Таллентом и это почетное звание принадлежит именно им. Однако, даже если бы это можно было доказать, все ученые знают, что, справедливо или нет – соображения справедливости на этом этапе вообще-то не имеют особого значения, – первооткрывателем считается тот, кто впервые описывает открытие в научной литературе, а не тот, кто просто отмечает событие в своих записках или дневниках.
Неизвестно, что думал Таллент про отчет Нортона об опа’иву’экэ. Немногие его сохранившиеся бумаги ничего подобного не упоминают, и Нортон никогда не ссылался на какие-либо их разговоры об этом.
Статья Таллента, разумеется, содержала ссылку на опубликованную ранее работу Нортона.
Нортон Перина, «Некоторые замечания о долгожительстве среди представителей народа Иву’иву», «Анналы эпидемиологии питания» (декабрь 1953), том 42, с. 324–328.
Революционная статья Нортона (известная как «Утверждение о бессмертии») была не единственной перчаткой, брошенной в тот год в лицо медицинским и научным стереотипам. В апреле Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик опубликовали в журнале «Нейчер» свою краткую статью – «Структура дезоксирибонуклеиновой кислоты», – в которой впервые была описана двойная спираль ДНК. В сочетании с открытием Нортона это привело многих историков науки к провозглашению 1953-го «годом чудес» – конечно, не без иронии, ведь эти ученые своими исследованиями пытались именно что опровергнуть чудеса.
Хотя Нортон, разумеется, придерживался высокого мнения о научных достижениях Уотсона, как человек Уотсон в целом не производил на него благоприятного впечатления – он считал, что тот слишком увлечен погоней за женщинами (о чем Уотсон подробно рассказывает в своих воспоминаниях «Гены, девушки и Гамов», Нью-Йорк, «Кнопф», 2002) и жаждой славы, которая не утихает по сей день.
Цель первых трех экспериментов Нортона заключалась в том, чтобы доказать, что мыши, получившие дозу опа’иву’экэ, после единственного такого кормления проживут в среднем существенно дольше своего стандартного жизненного срока, восемнадцати месяцев. Из группы А (двадцать пять пятнадцатимесячных мышей) 81 процент продолжал жить, а это означало, что медианный возраст выживания на сентябрь 1953 года, когда Нортон представил свою статью к публикации, составлял 46 месяцев; иными словами, продолжительность их жизни почти утроилась. Из группы C – сотни мышей, тоже получивших дозу опа’иву’экэ в возрасте пятнадцати месяцев, – 79 процентов были живы в возрасте 41 месяца, а это означало, что их продолжительность жизни выросла на 150 процентов. У контрольных групп из экспериментов А и C – тех мышей, которым были скормлены порции коробчатой черепахи, – продолжительность жизни составляла в среднем 17,8 месяцев, иными словами, не отличалась от обычной. В первой статье Нортона не обсуждались объекты из группы B (пятьдесят новорожденных мышат, получивших опа’иву’экэ в детском возрасте). Как ни удивительно, все они были живы в момент написания статьи, когда им был 31 месяц. Но поскольку в тот момент нельзя было доказать, что продолжительность их жизни удвоилась от поедания черепахи, Нортон решил, что публиковать эти результаты преждевременно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
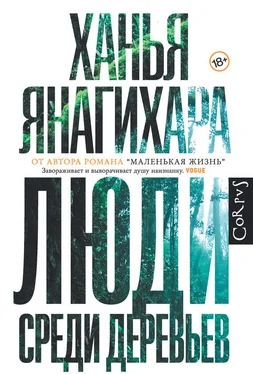



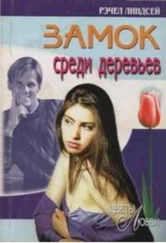

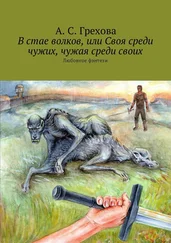
![Виктор Тюрин - Смерти вопреки - Чужой среди своих. Свой среди чужих. Ангел с железными крыльями. Цепной пёс самодержавия [сборник litres]](/books/430290/viktor-tyurin-smerti-vopreki-chuzhoj-sredi-svoih-sv-thumb.webp)